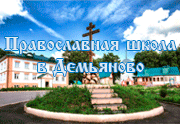Власть сама по себе есть функция, которой подчинены и активный носитель власти, и тот, кто претерпевает ее действие. Суть термина «пилатчина» связана с изменениями нравственно-ценностной позиции и поведения Пилата. Ибо власть – непереносимое иго для того, кому важно противопоставление добра и зла.
Михаил Булгаков в своем романе «Мастер и Маргарита» отваживается на религиозное, почти богословское исследование своего времени. Он проводит параллель сталинской Москвы 30-х годов ХХ века с событиями двухтысячелетней давности, происшедшими в Иерусалиме. Это роман о Христе, Понтии Пилате и сатане. Долгое время этот роман было принято ругать, некоторые считали его сатанинским и упрекали автора в том, что он исказил Писание. Однако и положительная критика часто сводилась к поверхностным выводам. Рассказывает протоиерей Виктор Маринчак.
Раздвоение Пилата
Почему Мастер написал роман на такую странную тему? Мастер исследовал природу власти, которая стремится быть безальтернативной, в связи с чем ее носители озабочены в первую очередь удержанием, сохранением ее – во что бы то ни стало, любой ценой. Такая сверхзадача приводит к тому, что власть стремится отбросить все ограничения, стать над законом и моралью. Поэтому для ее природы характерны полная бесконтрольность, неограниченное насилие, тотальное подавление, направленное не только против действий, но и против мыслей альтернативного характера. Соответствующие цели оправдывают любые средства.
Проблема «пилатчины» связана в первую очередь с тем, что личностное нача́ло вступает в противоречие с функциональным.

Смотрите также:
За что Канта «следовало бы отправить на Соловки»?
В шквале критики, обрушившейся на Мастера после публикации на вкладном листе в газете отрывка из его романа, среди невежественных обвинений в попытке «протащить в печать апологию Иисуса Христа», в том, что автор романа «богомаз» и даже «воинствующий старообрядец», можно найти созданное критиком Лавровичем слово «пилатчина», с одной стороны, ярко-экспрессивное, отрицательно-оценочное и потому глубоко обидное, с другой стороны, очевидно, являющееся обозначением некоего объемного и содержательного понятия.
Введя термин «пилатчина», Лаврович «предлагал ударить и крепко ударить по пилатчине и тому богомазу, который вздумал протащить (опять это проклятое слово!) её в печать». Здесь не должно ускользнуть от внимания следующее: ударить, и крепко ударить критик предлагает не по «апологии Иисуса Христа» (во-первых, мнимой, поскольку Иешуа Га-Ноцри, безусловно, не может отождествляться с Иисусом Христом, а во-вторых, ничего для таких критиков нового не представлявшей), а именно по пилатчине – проницательный Лаврович понял, что именно она представляет некую опасность, когда ее пытаются «протащить» в печать.
Мастер был явно не готов к такому восприятию того, что названо словом «пилатчина»: как сам он рассказывает И.Бездомному, от этого слова он «остолбенел». Видимо, поразительны для него были и неприятие со стороны критики сделанного им, и меткость попадания в сердцевину его замысла.
Емельян Ярославский, председатель «Союза воинствующих безбожников СССР» (прототипа МАССОЛИТа в булгаковском романе). Был редактором журналов «Безбожник», «Безбожный крокодил», под его руководством издавалось множество антирелигиозных брошюр, плакатов и открыток
Прообразом Михаила Берлиоза в романе считается Демьян Бедный — советский поэт, автор множества антирелигиозных стихов. В конце 1920-х годов он вместе с Владимиром Билль-Белоцерковским и Владимиром Киршоном участвовал в кампании против Булгакова, писал критические статьи о его произведениях
Поэт Александр Безыменский был еще одним яростным критиком Булгакова. Он писал стихи о революции и сатирические произведения. Считается прототипом поэта Ивана Бездомного
Можно предположить, что пилатчина, а не мнимая апология Иисуса Христа заставляет критика Аримана назвать Мастера (в одной из редакций) «враг под крылом редактора», а его роман «вылазкой врага», а также, что с содержанием именно этого понятия связано то в критических статьях, что так удивило Мастера:
«Что-то на редкость фальшивое и неуверенное чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей, несмотря на их грозный и уверенный тон. Мне все казалось, — и я не мог от этого отделаться,- что авторы этих статей говорят не то, что они хотят сказать, и что их ярость вызывается именно этим».
Итак, «пилатчина» по сути может рассматриваться как концепт, имеющий отношение к замыслу Мастера, писавшего роман о Понтии Пилате, соответственно получающий детальное представление в повествовании, раскрывающийся через последовательность событий, как концепт, посредством которого устанавливается содержательная связь между романом Мастера и романом о Мастере, как концепт, ценностно-значимый, на который направлены оценки, ценностное отношение и эмоциональные реакции, как концепт, с одной стороны, аккумулирующий в себе сюжет романа Мастера и, с другой стороны, играющий сюжетообразующую роль в романе о Мастере. Наконец, этот концепт имеет отношение к внетекстовой семантике, исходя из которой и можно понять, откуда фальшь и неуверенность у авторов статей, почему они «говорят не то, что они хотят сказать», и каково содержание этого так и не сказанного ими.
Иван Глазунов. «Распни Его!»
Судить о концепте «пилатчина» можно главным образом на основании текста ершалаимских глав. Правда, их авторство ставится под сомнение: ведь первая из них известна в изложении Воланда, вторая предстает как сон Бездомного, возможно, внушенный тем же Воландом, и лишь последующие прочитываются по рукописи, впрочем, восставшей из пепла по воле того же Воланда, хотя знавшая очень хорошо роман Маргарита узнает их и перечитывает как знакомый текст.
Можно предложить следующее объяснение. Объем опубликованного в газете на вкладном листе фрагмента романа примерно совпадает с объемом представленных в «Мастере и Маргарите» ершалаимских глав. В них действительно речь идет, за исключением главы «Казнь», главным образом о Пилате. Возможно, что это и есть опубликованный в газете отрывок из романа.
Появление Воланда в Москве среди прочего мотивируется и его интересом к Мастеру. В таком случае роман Мастера ему должен был быть известен изначально. И тогда он при встрече с Берлиозом и Бездомным мог воспроизводить именно его. Примем это как рабочую версию.
С самого начала следует заметить, что суть концепта «пилатчина» связана с изменениями эмоционально-психологического состояния, нравственно-ценностной позиции и поведения Пилата. Изменения здесь катастрофические, приводящие к существенному перевороту в сознании и поведении прокуратора, в результате чего возникает коллизия между ветвями власти, нарастающая до напряженно-катастрофического конфликта, сам Пилат переживает внутренний конфликт (в первую очередь это конфликт между его изменившимся ценностным сознанием и его статусом), что в итоге ставит его в конфликтное положение по отношению к власти над ним и к власти как таковой.
Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925 год
Власть сама по себе есть функция, которой подчинены и активный носитель власти, и тот, кто претерпевает ее действие. Для ситуации применения власти обе стороны актуальны лишь в соотношении с данной функцией. Всё остальное не имеет значения. Проблема «пилатчины» связана в первую очередь с тем, что личностное вступает в противоречие с функциональным. Если воспользоваться словом, употребленным в названии одной из глав «Мастера и Маргариты», то происходящее с Пилатом в романе Мастера можно назвать раздвоением. «Раздвоение», пожалуй, тоже один из важнейших концептов в романе Булгакова, где раздваиваются разные герои (не только Иван), раздваивается реальность, ход событий. Коль скоро раздваивается и Пилат, этот концепт тоже связывает оба романа.
Раздвоение Пилата вызвано появлением перед ним осужденного Иешуа Га-Ноцри, встреча с которым за считанные минуты вводит его в противоречие с его функциональной ролью. Чтобы понять, как это происходит, необходимо проследить изменения внутреннего состояния, восприятия, отношения к наблюдаемому у Пилата, раскрыть динамику интерпретации им происходящего. Само происходящее, а особенно изменения в его толковании разворачиваются в крайне интенсивном темпе, поэтому здесь необходимо принимать во внимание мельчайшие подробности.
С первых слов, характеризующих исходное состояние Пилата в момент его встречи с Иешуа, становится ясным, что это состояние – физическое, но вследствие этого и эмоциональное, является крайне негативным. Прежде чем мы узнаем о приступе его болезни, мы видим, как остро и болезненно он воспринимает все окружающее: «Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла, и все теперь предвещало нехороший день, так как запах этот начал преследовать прокуратора с рассвета». Далее об этом запахе говорится: «примешивается проклятая розовая струя». Состояние прокуратора столь тяжело, что он мысленно восклицает: «О боги, боги, за что вы наказываете меня?» Наконец, мы узнаем, что у него приступ: «Это она, опять она, непобедимая, ужасная болезнь». Через некоторое время явятся дополнительные характеристики тяжести состояния: дважды в больной голове прокуратора появляется мысль о яде.
Состояние Пилата способствовало реализации того направления в ходе событий, возможность которого в определенный момент представилась прокуратору: «И вдруг в тошной муке подумал о том, что проще всего было бы изгнать с балкона этого странного разбойника, произнеся только два слова: «Повесить его». Изгнать и конвой, уйти из колоннады внутрь дворца, велеть затемнить комнату, повалиться на ложе, потребовать холодной воды, жалобным голосом позвать собаку Банга, пожаловаться ей на гемикранию». Функция власти была бы осуществлена, агент власти остался бы однозначным, во всяком случае для окружающих, но и для себя как носителя функции, ситуация применения власти была бы стандартной. Но происходит, как известно, иное.
Возможность такого иного хода событий намечается уже в первой реплике Пилата: «Подследственный из Галилеи? К тетрарху дело посылали?» Из этих слов следует, что прокуратор в данном случае не прочь бы уклониться от применения власти. В последующем обмене репликами есть намек, который впоследствии получает подтверждение, на мотив, который руководит Пилатом:
— Да, прокуратор, — ответил секретарь.
— Что же он?
— Он отказался дать заключение по делу и смертный приговор Синедриона направил на ваше утверждение.
Мотив таков: приговор вынесен Синедрионом, по отношению к которому у Пилата, как видно, неоднозначная позиция.
Правда, поначалу отношение прокуратора к обвиняемому вполне соответствует его состоянию, и физическому, и душевному, его характеру, о котором он сам говорит: «Это меня ты называешь добрым человеком? Ты ошибаешься. В Ершалаиме все шепчут про меня, что я свирепое чудовище, и это совершенно верно». И в первом его действии по отношению к подследственному реализуется обезличенная и обезличивающая функция власти: «Преступник называет меня «добрый человек». Выведите его отсюда на минуту, объясните ему, как надо разговаривать со мной. Но не калечить». Неважно, кто приказывает, кто будет исполнять приказ (лишь бы эффективно, потому и вызван Крысобой), неважен тот, кто будет подвергнут «воздействию», неважно, что это будет за воздействие – все дано в аспекте сугубо функциональном, главное: как надо разговаривать с представителем власти.
Разворачивающийся далее диалог с подследственным поначалу идет в том же ключе. Тут характерны замечания прокуратора: «Не притворяйся более глупым, чем ты есть»; «Это можно выразить короче, одним словом – бродяга»; «Ты, например, лгун. Записано ясно: подговаривал разрушить храм»; «Перестань притворяться сумасшедшим, разбойник». Пилат здесь исходит из диспозиции: перед прокуратором – обвиняемый, в суде первой инстанции уже приговоренный к смерти. По отношению к нему власть прокуратора безгранична. Обвиняемый не может не бояться этой власти и должен быть перед ним в униженном, жалком положении и соответствующем состоянии. Для него естественно изворачиваться, притворяться, лгать. Статус обвиняемого крайне низок: «одним словом – бродяга», что не сопоставимо со статусом прокуратора. Обвинение тяжкое, что позволяет именовать подследственного «разбойник». Оно доказано. Обвиняемому остается трепетать перед властителем и умолять о пощаде.

Смотрите также:
Кесарю или Богу?
Здесь есть одна тонкость. В самом начале сцены, до появления Иешуа, Пилат действительно называет его подследственным и обвиняемым. Но на самом деле положение арестанта намного хуже: он осужденный, предстающий, пожалуй, не перед кассационным или, скажем, верховным судом после суда в первой инстанции, а перед верховной властью, которая через утверждение или неутверждение приговора может санкционировать казнь или помиловать преступника. Это не апелляционный суд, и здесь не место для разбирательства обстоятельств дела. Здесь уместно только прошение о помиловании. Судя по их реакциям, именно так трактуют диспозицию Пилат и его секретарь. Соответственны и их ожидания.
Но эти ожидания не оправдываются. Подследственный вместо того, чтобы унижаться и молить о помиловании, осмеливается возражать: «Я, игемон, никогда в жизни не собирался разрушать здание храма и никого не подговаривал на это бессмысленное действие». Здесь уже налицо незаметное для нас и проигнорированное Пилатом нарушение нормы общения. Но секретарь, тонкий знаток протокола и этикета, реагирует незамедлительно: «Удивление выразилось на лице секретаря».
Секретаря в реплике осужденного могло удивить не только то, что он пытается опровергнуть показания свидетелей и вернуть разговор к рассмотрению сути обвинения, что само по себе неуместно, но и сама манера речи: в ней есть что-то лишнее. Даже возражая, арестант должен был ограничиться таким, например, заявлением: «Я на самом деле не собирался разрушать здание храма и никого не подговаривал на это». Но арестант зачем-то к этому присоединяет не имеющие отношения к делу слова «никогда в жизни». Более того, он употребляет оценочное определение «бессмысленные действия», тогда как в подобной ситуации появление оценок в устах арестанта есть явное нарушение речевого этикета, что свидетельствует о недопустимой в его положении свободе поведения.
После утверждения Пилата, что он лгун, арестант вновь осмеливается возразить: «Эти добрые люди, игемон, ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной». Здесь налицо новое, более грубое нарушение этикета: во-первых, в положении осужденного совершенно неуместно допускаемое им многословие (здесь лишним является все, кроме слов «эти люди все перепутали, что я говорил»); во-вторых, под конец он говорит нечто, что может быть его собеседником расценено как дерзость. Это уже не проходит мимо внимания прокуратора: «Наступило молчание. Теперь уже оба больные глаза тяжело смотрели на арестанта».
Иисуса ведут от Каиафы к Пилату. Картина Дж. Тиссо
После слов Пилата о том, что «записанного достаточно, чтобы тебя повесить», осужденный, как бы не замечая ни этих слов, ни тяжелого взгляда прокуратора, пускается в многословное объяснение, подробно рассказывая об обстоятельствах встречи с Левием Матвеем, переходя вообще к отвлеченным рассуждениям этико-лингвистического характера: «Первоначально он… даже оскорблял меня, то есть думал, что оскорбляет, называя меня собакой,- тут арестант усмехнулся,- я лично не вижу ничего дурного в этом звере, чтобы обижаться на это слово». Смелость и свобода арестанта (он еще и усмехнулся!) здесь переходят всякие границы, и чуткий секретарь тут уже ожидает соответственной реакции со стороны Пилата: «Секретарь перестал записывать и исподтишка бросил удивленный взгляд, но не на арестованного, а на прокуратора».
Секретаря удивляет именно то, что Пилат никак не реагирует на непротокольное поведение арестанта. Можно думать, что прокуратор не реагирует из-за болезни или из-за того, что помимо воли поддается обаянию и внушающей силе речи осужденного. Может быть, он тянет с допросом и ввязывается в беседу на постороннюю тему (о том, что сборщик податей бросил деньги на дорогу), потому что достаточно сильно его негативное отношение к синедриону. Но возможно и иное объяснение: арестант навязывает прокуратору свое видение диспозиции в диалоге — это беседа равных по статусу лиц. И статус этот определяется не по социальному положению или распределению социальных ролей, а по параметру личностному: это беседа двух полноценных и свободных личностей, даром что один над другим имеет неограниченную власть, а этот другой стоит перед первым со связанными руками и обезображенным побоями лицом.
Так не ведут себя рабы, разбойники, арестанты. Свобода, внутренняя, но и проявляющая себя в поведении, в речи, свобода естественная, ведь с натугой изображая себя свободным, вряд ли сможешь столь непосредственно усмехнуться, — это могло поразить и заразить Пилата. Арестант и сам нестандартен, и мыслит своеобразно, противореча стандартным представлениям. И говоря о том, оскорбительно ли наименование «собака». И рассказывая, что сборщик податей бросил деньги на дорогу, потому что они стали ему ненавистны. Для человека весьма строгих правил, каковым в силу его положения не мог не быть Пилат, сама такая возможность выхода за пределы стандарта поразительна.
Пилату нестерпимо плохо. Он «в тошной муке» думает о том, что проще всего было бы вынести приговор и попытаться спрятаться от боли, от которой, он знает, нет спасения, «мысль об яде» соблазнительно мелькает в его больной голове. Он мучительно вспоминает, «какие еще никому не нужные вопросы ему придется задавать». Даже голос арестанта, «казалось, колол Пилату в висок, был невыразимо мучителен». Но Пилат неизвестно почему, а точнее по причине того, что у него складываются с арестантом отношения, весьма странные с позиции такого наблюдателя, как секретарь, продолжает длить свою муку и задает вопрос, может быть, самый главный в ходе беседы: «А вот что ты все-таки говорил про храм толпе на базаре?» И получает главный в контексте его уже новых отношений с арестантом ответ: «Я, игемон, говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины».
Задав следующий вопрос («Что такое истина?»), Пилат как бы слышит голос здравого смысла, опирающегося на стандартные представления: «Я спрашиваю о чем-то ненужном на суде». Но главные слова уже сказаны, их неотвратимое действие уже началось.Тут нужно остановиться, ведь дальше произойдет, пусть небольшое, но чудо. Кроме того, объективно изменится диспозиция: Иешуа и Пилат со следующего момента будут находиться в отношениях «врач – пациент». Подведем итог этой части разговора.

Смотрите также:
Синдром Пилата: чистые руки — не признак правоты?
Пилат встретил человека, связанного и избитого, слабого, униженного, бесправного и беззащитного, над которым тяготел смертный приговор синедриона, судьба которого полностью зависела от прокуратора. Его статус – бродяга, его роль – приговоренный к смерти. Но его внутреннее состояние, проявления, речь, поведение входят в противоречие с названными характеристиками его положения. Он являет себя как свободная личность, чье достоинство непоколебимо, несмотря на все унижения. В слабости своего положения он проявляет глубокую внутреннюю силу, которая связана не с тем, что он вообще чего-то или кого-то не боится (он боится Марка Крысобоя и возможных побоев), но с удивительным социальным бесстрашием. Для него не важны статус и роль собеседника. Он игнорирует диспозицию судья – обвиняемый, всевластный прокуратор – униженный арестант. Он игнорирует этикетные нормы, протокольные формы поведения. Он общается с другим как с личностью. При этом он естествен и прям. И в мышлении своем он отвергает все стандартное, он знает: старое обречено. Всему этому старому, косному, обветшавшему он противопоставляет новую истину.
Все это и поразило прокуратора, которому, вопреки его статусу, остались не чужды свобода и достоинство человека. Слова же о том, что «рухнет храм старой веры», давали объяснение тому, на чем основывался смертный приговор синедриона, и могли поставить Иешуа в глазах Пилата в несколько более благоприятное положение, учитывая, что наметилась некая оппозиция Пилата к синедриону. Уже к этому моменту личность арестанта обрела для Пилата некоторую загадочность и привлекательность.
Дление разговора Пилатом до этого момента объясняется тем, что арестант предстает перед ним как нечто совершенно неожиданное и непонятное с точки зрения его предшествующего опыта: явление внутренней силы в слабости положения, внутренней свободы в положении крайне униженном, отваги, игнорирующей весь ужас ситуации, способности не думать при этом о себе, но думать и говорить о чем-то ненужном на суде – об истине.
С позиций рационального латинского сознания истина – это утверждение, которое поддается проверке, может быть подтверждено фактами, доказано. Можно ли этому поклоняться? Возможен ли культ истины, вера в истину или служение ей при таком толковании слова «истина»? Конечно, нет. Поэтому с точки зрения Пилата само словосочетание «храм истины» бессмысленно. Потому-то он и задает свой вопрос: «Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о которой ты не имеешь представления? Что такое истина?» Прокуратор тут же спохватывается, но факт налицо: он вовлечен в беседу «о чем-то ненужном», его внимание уже приковано к Иешуа, как он поймет позднее, ему нужно о чем-то «договорить», что-то «дослушать». И это уже личностное отношение, противоречащее функциональному, оно и обнаруживает начало «раздвоения» Пилата.
Николай Ге. Что есть истина? (фрагменты)
«Что такое истина?»
Истина с точки зрения Иешуа соотносится с верой: храму старой веры он противопоставляет новый храм истины. Иначе говоря, истина – не то, что доказывают и постигают рационально, но то, во что верят, чему служат и поклоняются, чем живут и за что отдают жизнь. Ему эта истина дана непосредственно, в целостном приобщении к ней, в переживании её. Не только он овладевает ею, но и она владеет им. Именно это, судя по всему, дает ему то состояние внутренней свободы и то бесстрашие, которые так поражают Пилата.
Через короткое время о главном в познанной им истине и соответственно о содержании своей веры Иешуа скажет Пилату. Но теперь, чтобы прокуратору «было понятнее», он демонстрирует ему явление истины. С одной стороны, в том, как он отвечает на вопрос Пилата, есть внешняя сторона, замеченные опытным взглядом симптомы, что позволяет поставить диагноз: «Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова… Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на меня». Это пока истина в пилатовском понимании: утверждение соответствует действительному состоянию пациента, подтверждается как фактически верное.
Но есть другая сторона, и тут явлено нечто большее. Истина раскрывает суть вещей, суть происходящего. И тут главное то, что внутри, а не снаружи, глубинное внутреннее, а не внешнее и поверхностное. Внутреннее же непосредственно переживается, это мотивы, стремления, эмоции, мысли, отношения. Это и то, «что ты малодушно помышляешь о смерти», и то, что «я невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает», и то, что «ты не можешь даже и думать о чем-нибудь и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан». Истина в этом фрагменте являет себя еще и в том, что возникает невозможное с точки зрения Пилата проникновение во внутреннее (скрытые переживания, мысли, отношения). Оказывается, что невозможное возможно. Истина, открывающаяся здесь, также в том, что полнота личности входит в непосредственное соприкосновение и взаимопроникновение с полнотой другой личности. И отношения между этими двумя становятся отношениями равноценных личностей, что хотя бы в некоторой мере отменяет функциональные отношения (прокуратор – осужденный).
Истина, наконец, в том, что и осужденный проявляет себя во всей полноте – своих сил, возможностей, в целом своей личности. Это, конечно, в который раз являемая дерзостная отвага, на которую опять так остро реагирует секретарь: «Секретарь вытаращил глаза на арестанта и не дописал слова». Но важнее другое. Пилат, очевидно же, хорошо знал, как ведут себя приговоренные к повешению на столбе. Крайнее отчаяние, беспредельный ужас, ничем неутолимая тоска – вот все, чего можно ожидать от человека в таком положении. Трудно даже вообразить, что человек при этом может забыть о себе, полностью переключиться на другого. Но именно это – немыслимое – происходит. Какой же истиной должен владеть человек, чтобы быть способным к такому!
Тут-то и открывается истина о существовании таинственной Истины, которая дает человеку такие духовные возможности. Это действительно Истина высшего порядка, небывалая, новая, это на самом деле Истина, которой следует создать храм, которой можно поклоняться, служить, в которую стоит верить. Все это, конечно, не осознается Пилатом. Но интуитивно он что-то, безусловно, схватывает. И то, что дано ему в интуиции, определяет его реакции, не соответствующие ожиданиям секретаря: после реплики Иешуа он – до свершения исцеления – только всматривается в арестанта.
Совершаемое арестантом исцеление вселяет в прокуратора ужас: ведь он знал, что гемикрания болезнь непобедимая, «от нее нет средств, нет никакого спасения». Но невозможное стало реальностью. Для дальнейшего развития отношений между прокуратором и осужденным важно не столько изменение диспозиции (то, что они теперь в отношениях врач – пациент на самом деле имеет второстепенное значение), сколько внутреннее преображение Пилата, уже ощущаемое арестантом. Иешуа продолжает свою речь, очевидно, потому, что для него Пилат – тот, с кем стоит говорить.
Его тон несколько меняется, сказывается изменение диспозиции: как успешный врач, он «благожелательно» поглядывает на Пилата, дает ему советы: «Я советовал бы тебе, игемон, оставить на время дворец и погулять пешком где-нибудь…Прогулка принесла бы тебе большую пользу, а я с удовольствием сопровождал бы тебя». Уже это могло бы поразить секретаря, еще не уловившего ни смены диспозиции, ни изменения внутреннего характера отношений между Пилатом и Иешуа. Тон арестанта тем временем становится и вовсе покровительственным: «Мне пришли в голову кое-какие новые мысли, и я охотно поделился бы ими с тобой, тем более что ты производишь впечатление очень умного человека». Здесь уж «секретарь смертельно побледнел и уронил свиток на пол».
Но арестанту теперь многое позволено, поскольку многое открыто из внутренней жизни Пилата, а тот, только что обнаружив это проникновение Иешуа в его внутренний мир, на какое-то время остается как бы в растерянности. Поэтому никто не останавливает связанного, и он продолжает: «Беда в том, что ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей. Ведь нельзя же, согласись, поместить всю свою привязанность в собаку. Твоя жизнь скудна, игемон».
Здесь уже характеризуется не временное состояние внутреннего мира, как в предыдущем фрагменте, здесь дается представление фундаментальной ущербности внутренней жизни прокуратора. Точность характеристики такова, что границы допустимого этикетом оказываются далеко позади. Меру по сути предельного нарушения правил можно оценить через реакцию секретаря: «Секретарь думал теперь об одном, верить ли ему ушам своим или не верить. Приходилось верить. Тогда он постарался представить себе, в какую причудливую форму выльется гнев вспыльчивого прокуратора при этой неслыханной дерзости арестованного. И этого секретарь представить себе не мог, хотя и хорошо знал прокуратора».
Дальнейшее можно объяснить тем, что у прокуратора появляется мотивация смягчить участь осужденного. Что происходит в это время во внутреннем мире Пилата, остается сокрытым. Но то, что внутри у него закипает буря, очевидно: «Круто, исподлобья Пилат буравил глазами арестанта, и в этих глазах уже не было мути, в них появились всем знакомые искры».
Чувства Пилата не могут не быть противоречивыми. Тут и радость освобождения от нестерпимой боли, и ощущение вновь обретаемой физической крепости. И более того, восторг от того, что с болезнью может быть покончено навсегда. Тут и гнев, и ярость от того, что он только что был вывернут наизнанку арестантом. Тут ощущение, как на краю бездны, ведь, чтобы иметь у себя такого врача, нужно на многое решиться. Тут и предощущение этой решимости. Тут и смутная тревога, и недоверие. И мучительное переживание раздвоения: душа Пилата уже начинает отрываться от статуса, роли, функции. Вместе с тем появляется интуитивное схватывание того, что все происходящее имеет еще какое-то необыкновенно важное значение, что все это может перевернуть мир внутри и вне Пилата.
Переживаемое Пилатом предопределяет дальнейшее развитие разговора. Пилат явно признает правоту арестанта в той части, которая касается вещей, рационально объяснимых:
— Как ты узнал, что я хотел позвать собаку?
— Это очень просто, ты водил рукой по воздуху, как будто хотел погладить, и губы…
— Да,- сказал Пилат.
Показательна идущая сразу вслед за этим ремарка автора: «Помолчали». За этим молчанием – отсутствие отрицания всех иных высказываний Иешуа о внутренних состояниях и в целом о внутреннем мире Пилата. Молчание, как известно, знак согласия. Пусть неявного, но все же… А такое молчаливое согласие свидетельствует о готовности Пилата к внутреннему перевороту, к обращению. Ведь если он согласен с тем, что он замкнут, и потерял веру в людей, и поместил всю свою привязанность в собаку, что жизнь его скудна, значит он, хотя бы отчасти, разделяет и соответствующую оценку его жизни и состояния души, следовательно, может уже начать испытывать отвращение к некоторым хотя бы состояниям своего внутреннего мира, а соответственно и мира, в который он погружен, но это и составляет необходимое условие обращения.
И потребность иметь под рукою великого врача, и начавшееся обращение обусловливают изменение модуса следующего вопроса к Иешуа: «Так ты утверждаешь, что не призывал разрушить или поджечь, или каким-либо иным способом уничтожить храм?» Модус здесь, выраженный с помощью частицы так, имеет следующий смысл: ты утверждаешь, и я готов этому поверить. Отвечая, арестованный, по своему обыкновению прибавляет замечание, не имеющее как будто отношения к делу: «Я, игемон, никого не призывал к подобным действиям. Разве я похож на слабоумного?» Реакция Пилата вновь свидетельствует о чудовищности ситуации – и положения Пилата, и положения осужденного – и о катастрофичности того переворота, который внутренне назревает у Пилата: «О да, ты не похож на слабоумного,- тихо ответил прокуратор и улыбнулся какой-то страшной улыбкой».
Дело в том, что Пилат уже готов войти в противоречие с приговором синедриона, и это делает его положение как минимум проблематичным. Далее, он, в отличие от осужденного, не забывает о приговоре, который должен быть утвержден, знает, что необходимо нечто из ряда вон выходящее, чтобы уклониться от его утверждения. Наконец, и это важнее всего, под воздействием этого человека, который «не похож на слабоумного», он пережил нечто такое, что и вынуждает его к входящему в противоречие с его статусом прокуратора и с его ролью представителя инстанции, функция которой – утверждение (и не более) уже вынесенного приговора, кардинальному изменению своего отношения к происходящему.
Но пока что тот внутренний переворот, который переживает Пилат, сводится к негативному, к отрицанию – своих предшествующих состояний, своей функции, того приговора, которым Иешуа осужден к повешению на столбе. Однако по-настоящему обращение может осуществиться, когда на смену всему негативному придет то положительное, чем можно наполнить душу. Собственно это и раскрывается в следующей части диалога.
Прокуратор предлагает осужденному поклясться и на встречный вопрос («Чем хочешь ты, чтобы я поклялся?») отвечает так, что этот его ответ должен был бы вернуть и ход разговора, и внимание и мысли осужденного к ясному представлению всего ужаса его положения: «Ну, хотя бы жизнью твоею,- ответил прокуратор,- ею клясться самое время, так как она висит на волоске». Но происходит иное: Иешуа, вместо того чтобы опомниться, говорит то, что, не имея отношения к темам приговора, суда и казни, раскрывает в одной фразе и содержание, и модус (характер и меру) его веры: «Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, игемон?- спросил арестант,- если это так, ты очень ошибаешься».
Это можно понять так: Иешуа верует в Истину, а Истина в том, что жизнь дана человеку свыше. И от этой Высшей Силы зависит и жизнь, и судьба человека. Спокойствие, смелость, свобода, с которыми говорит об этом Иешуа, свидетельствуют о том, что его вера как доверие к этой Высшей Силе и как верность принятой им Истине непоколебимы: это полное доверие, это спокойная уверенность, это спокойное, просветленное приятие Высшей воли, какой бы она ни была. Если ты отдал себя, свою жизнь, свою судьбу в руки Божьи, нечего тревожиться, суетиться. Ведь будет воля Божья, а это лучшее, чего бы ты мог желать.
До этого момента Пилат еще мог бы думать об осужденном, что это безумец, блаженный, отрешенный фанатик, человек, который в силу гиперконцентрации на чем-то своем и, соответственно, в силу некоторой ущербности, вызываемой подобной акцентуированностью, не вполне адекватен в восприятии реальности, в связи с чем не может сосредоточиться на действительном своем положении и до конца понять и оценить его. Но теперь становится ясным, что дело не в этом, а в той ясно осознанной и в то же время захватывающей всю личность вере в то, что единственной целью человека является следовать воле Божьей, отдаться ей, что в этом высшая ценность и высший, непреходящий смысл его бытия.
Но тот, кто верует так, обладает такой внутренней свободой, отвагой и силой, которые недостижимы без подобной веры. Но поразительнее всего для Пилата, что над человеком с такой верой не властен никто, кроме Бога. Его можно истерзать пытками, но не сломить, убить, но не растоптать. Вот случай, когда очевидно превосходство над ним, Пилатом. Вот чего ему, Пилату, недостает. Смог ли бы он так ответить человеку, вершащему его судьбу?
Может быть, поэтому «Пилат вздрогнул» и следующую реплику проговорил «сквозь зубы». Эта его реплика – еще одна попытка крайне заострить ситуацию: «Я могу перерезать этот волосок». Ответ арестанта таков и произносится он так, что места для сомнений не остается: вот она, настоящая вера, которая не декларируется, являет себя не доктринально, но как живое свидетельство – в поведении, в целостной экзистенции, в способе бытия в целом и в каждом проявлении, в каждой мелочи, в каждом тоне, слове и жесте: «И в этом ты ошибаешься,- светло улыбаясь и заслоняясь рукой от солнца, возразил арестант,- согласись, что перерезать волосок уже наверно может лишь тот, кто подвесил?»
Показательно, что Пилат дальше не продолжает эту линию разговора. В этом отношении ему, как видно, ясно, что дискутировать дальше бессмысленно: поколебать арестанта не удастся. Характерно, что следующую реплику Пилат начинает, «улыбнувшись»: дескать, что тут скажешь. Перевод разговора на другую тему, что подобно уже отмеченному молчанию, как и улыбка, говорит о том, что возразить нечего, что правота осужденного косвенно признана, более того, неявно признается его внутреннее превосходство. Перед интуицией Пилата предстает, наконец, то положительное, чем можно было бы наполнить душу. А отсюда – один шаг к тому, чтобы захотеть такому научиться. Налицо все необходимые предпосылки для обращения.
Но что-то удерживает Пилата от безоговорочного приятия свойственной Иешуа экзистенции. Да, он чувствует превосходство арестанта. И стремление овладеть тем, что обеспечивает это превосходство, есть. Но, с другой стороны, именно то, что это обеспечивает – вера Иешуа, Истина, открывшаяся ему, обусловливает то, что он как бы ускользает из сферы действия власти. Экзистенция Иешуа противопоставляет его власти и закону, властителям и судиям.
Конечно, это не антигосударственная, антиимперская позиция, как у настоящего бунтовщика, каким мог быть, скажем, Вар-равван. Позиция Иешуа не политическая, он аполитичен. Вместе с тем он асоциален по отношению к власти и закону, точно так же, как асоциальным в сфере материальных отношений становится сборщик податей, бросающий деньги на дорогу. Пребывая в своем, альтернативном мире истины, веры, духовной свободы, он проявляет нигилизм по отношению к власти и закону. Позиция, безусловно, утопическая. Но раздражающая и подозрительная и для той власти, которая опирается на римское право, и для той власти, которая руководствуется ветхозаветным законом. Подобная позиция ставит ее носителя в положение вне закона, потому что она с точки зрения и светской, и духовной власти представляет общественную опасность, может по-настоящему смутить народ.
Не менее опасно и поддерживать (защищать, освобождать от смертного приговора) такого человека. Вот более полное объяснение, почему в определенный момент прокуратор «улыбнулся какой-то страшной улыбкой». Имея в виду (может быть, и бессознательно) эту асоциальность Иешуа, которая носит по сути тоже бунтарский характер, Пилат и задает ему вопрос относительно Дисмаса, Гестаса и Вар-раввана, действительных бунтовщиков, хотя, судя по всему, в материалах дела Иешуа они не упоминались. И, поскольку эта тема не может иметь продолжения, цепляется к термину «добрые люди» как более важному для прояснения позиции Иешуа:
— Ты всех, что ли, так называешь?
— Всех,- ответил арестант,- злых людей нет на свете.
— Впервые слышу об этом, но, может быть, я мало знаю жизнь.
И спустя минуту задает острый вопрос, дающий возможность проверить меру убежденности арестанта: «А вот, например, кентурион Марк, его прозвали Крысобоем,- он – добрый?» Ответ арестанта раскрывает, с одной стороны, его еще раз удивляющую прокуратора способность к альтероцентризму, а с другой стороны,- основания такого его убеждения: «Да, — ответил арестант,- он, правда, несчастливый человек, С тех пор как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств».
За этим стоит вера, что каждый сотворен по образу Божию, а значит, каждый изначально добр; в жестоком мире этот образ может быть поврежден, но у человека всегда есть возможность вернуться к исходному состоянию – отсюда следующая реплика Иешуа: «Если бы с ним поговорить,- вдруг мечтательно сказал арестант,- я уверен, что он резко изменился бы». В ответе Пилата, что «мало радости ты доставил бы легату легиона, если бы вздумал разговаривать с кем-либо из его офицеров или солдат», и в обещании позаботиться, чтобы этого не случилось, содержится и признание силы убеждений Иешуа, и социальный прагматизм прокуратора, хорошо понимающего, что легионеры, призванные выполнять любые, самые жестокие приказы, оказались бы непригодными к службе после подобных разговоров.
Именно в этот момент прокуратор решается. В его голове «сложилась формула»: «Игемон разобрал дело бродячего философа Иешуа, по кличке Га-Ноцри, и состава преступления в нем не нашел»… Прокуратор, хотя и чувствует, что мирная проповедь философа носит бунтарский характер, хотя и понимает, что могла быть связь «между действиями Иешуа и беспорядками, происшедшими в Ершалаиме»,- игнорирует это. Чтобы это как-то оправдать, он мысленно именует его душевнобольным, а речи его – безумными и утопическими.
Прокуратор вознамерился не утвердить смертный приговор Синедриона, может быть, и понимая, что он сам входит в противоречие не только с Синедрионом, но с принципом власти как таковым. Он сделал свой внутренний выбор – не в пользу власти, а в пользу личности – конечно, врача, но и носителя необыкновенной, таинственной духовной силы. Если его обращение осуществилось, то именно в этот момент. Но если совершилось обращение, значит, он готов признать в Иешуа учителя, от которого многое еще надо дослушать. Коллизия между властью и личностью, властью и свободой, властью и духовным самостояньем как будто уже разрешилась на этот момент для него в пользу личности, свободы, духа. Но – лишь на мгновение – и только потому, что открыто антагонизм проповеди Иешуа и принципа власти еще не проявился.
Антонио Чизерине. «Се — человек!»
Момент истины
Вот тут и настает момент истины почти в юридическом смысле этого выражения. На вопрос: «Все о нем?» секретарь отвечает: «Нет, к сожалению». Так ли неожиданно то, что он добавляет к ответу выражение, передающее его личное отношение? С точки зрения этикета – да. Даже если секретарь и понял что-то, он должен был бы скрыть это. Но его заражает пример прямоты, открытости и свободы. И он проникся сочувствием и к арестанту, и к прокуратору, разительные перемены в поведении которого он к этому моменту не мог не заметить.
Но дальше Пилат выдает себя еще больше. Прочитав написанное на другом листе пергамента, он «изменился в лице, кожа его утратила желтизну, а глаза как будто провалились». Ясно, что произошла катастрофа. Но почему Пилат переживает ее как свою катастрофу? По-видимому, в этот момент, когда он обнаружил нечто непоправимое, он должен был до конца осознать и ли прочувствовать, что с ним только что произошло: он действительно захотел освободить арестанта, он не только проникся к нему симпатией, он пережил уже некое подобие обращения. В любом случае он ощутил внутреннее раздвоение, утратил тождество себе как исключительно представителю власти, обрел некое дополнительное измерение сознания и внутреннего мира в целом. Вместе с тем он обрел надежду на освобождение, и не только от болезни, это была надежда, связанная со смутным предощущением какого-то внутреннего освобождения, внутреннего подъема, может быть, взлета. И вот все рухнуло.
Траектория движения души надломилась в высшей точке, и началось сокрушительное падение с этой высоты. Падения не было бы, если бы не было взлета. Насколько он разотождествился с системой власти, говорит тот образ, который возник в первый же момент перед его глазами: «Так, померещилось ему, что голова арестанта уплыла куда-то, а вместо нее появилась другая. На этой плешивой голове сидел редкозубый золотой венец: на лбу была круглая язва, разъедающая кожу и смазанная мазью; запавший беззубый рот с обвисшей нижней капризной губой». Это портрет императора Тиберия. Но как же он отвратителен для Пилата!. «И со слухом совершилось нечто странное – как будто вдали проиграли негромко трубы и очень явственно послышался носовой голос, надменно тянущий слова: «Закон об оскорблении величества»».
Здесь тоже момент истины: вот куда привела (и теперь ясно, что не могла не привести) мирная проповедь бродячего философа. Осознание этой части обвинения моментально приводит Пилата к пониманию: положение Иешуа безнадежно, спасения нет. Отсюда первая мысль – из тех, что охарактеризованы как «короткие, бессвязные и необыкновенные»: «Погиб!» Необыкновенность этой мысли в том, что она альтероцентрична: первое, о чем подумал Пилат, — не о себе, а о судьбе осужденного. К тому же эта невольная мысль содержит как дополнение сочувственное отношение. «Погиб» говорят о том, кто заслуживает высокой оценки, кому сочувствуют, с кем внутренне отождествляются.
Момент истины также в том, что Пилат не может этой гибели препятствовать. Он будет вынужден отдать мучительной смерти того, с кем отождествился. Отождествившись, он пережил как возможное для себя ту меру свободы, достоинства, отваги, которые он ощутил в арестанте. Теперь, из-за того, что он насквозь детерминирован социальным устройством, системой власти и как ее представитель, и как личность, он опять окажется «по ту сторону свободы и достоинства». Власть как таковая и главный ее рычаг – «Закон об оскорблении величества» внушает ему непередаваемый ужас.
Данное как возможность (свобода, достоинство, отвага) вновь становится невозможным. Наметившееся обращение остается сугубо виртуальным. В реальности он того, кто открыл ему возможность обращения, уже предает. Если бы не было обращения, не было бы и страха — могла быть досада, может быть, сожаление. Но не приливала бы кровь к вискам, не стучала бы в них, потому что не было бы ни страха, ни бессильной ярости, ни крушения надежд, ни страшного разочарования в самом себе, ни мучительного стыда. Все это есть – есть предательство, есть сокрушительное падение. Гибнет лучшее в нем, что только явилось как возможность, когда он отождествился внутренне с Иешуа, и вот он предает это лучшее в себе, обрекает его на погибель, то есть самого себя как свободную суверенную личность. Вот откуда вторая «необыкновенная» мысль: «Погибли!»
Погибли действительно оба. Но гибель Иешуа обусловлена тем, что он во всем до конца верен себе, своей вере, своей Истине. Эта гибель сопровождается катарсисом: герой гибнет, до конца сохраняя свою свободу и веру. Пилат же гибнет как личность, которая только что в возможности обрела новую, необыкновенно значимую ценностно идентичность и теперь теряет ее. Но потеря самотождественности есть разрушение личности, катастрофическое и фундаментальное. Исправить это невозможно, искупить – тоже. Неискупимая вина порождает неизбывные муки совести. Отсюда последняя из необыкновенных мыслей: «И какая-то совсем нелепая среди них о каком-то долженствующем непременно быть – и с кем?! – бессмертии, причем бессмертие почему-то вызвало нестерпимую тоску».
Да, Пилат как будто совершает дальше одну за другой попытки поправить положение: «Ты когда-либо говорил что-нибудь о великом кесаре? Отвечай! Говорил?.. Или… не… говорил?- Пилат протянул слово «не» несколько больше, чем это полагается на суде, и послал Иешуа в своем взгляде мысль, которую как бы хотел внушить арестанту». Далее он посылает осужденному еще один намекающий взор. Но очень скоро в тоне Пилата появляется безнадежность.
Дело в том, что Иешуа не только декларирует: «Правду говорить легко и приятно». Он на деле ни в чем не отступает от правды, сколько ему ни напоминай о «не только неизбежной, но и мучительной смерти». Он повторяет сказанное Иуде в ответ на просьбу того «высказать свой взгляд на государственную власть»: «Среди прочего я говорил, что всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть».
Преступность таких взглядов, их подпадание под закон об оскорблении величества неочевидны для Иешуа, потому что проповедь его действительно мирная, по сути утопическая или, скорее, связанная с эсхатологическими ожиданиями. То, что эти «утопические речи Га-Ноцри могут быть причиной волнений в Ершалаиме», обусловлено не их содержанием, а социальной напряженностью и экстатической настроенностью народа, ожидающего пришествия мессии и чающего освобождения от римского владычества.
Но с точки зрения закона, на страже которого должен стоять прокуратор, связь между такой проповедью и беспорядками в Ершалаиме очевидна. Уклониться от применения закона игемон не может. И это было ему ясно при первом взгляде на показания Иуды и тех людей, которые связали Иешуа и повели в тюрьму. Так что мнимые попытки спасти арестованного, намекая ему, что нужно изменить показания, были на самом деле бессмысленны (ведь устранить показания свидетелей невозможно) и совершались Пилатом скорее для самооправдания и самоуспокоения, впрочем, не вполне осознанно. Он, как бы ни хотел иного, вынужден признать, что Иешуа – «безумный преступник».
Да, при этом он «с ненавистью смотрел на секретаря и конвой», что опять выдает его внутреннее отношение к власти и всем ее представителям, сверху донизу. Эта ненависть по отношению к секретарю и конвою имела бы смысл, если бы отсутствие свидетелей при этих последних показаниях Иешуа могло бы что-то изменить. Но изменить уже ничего нельзя. И, значит, ненависть эта от той же ярости бессилия.
Пилат захотел остаться наедине с преступником, мотивируя это секретарю тем, что «здесь государственное дело». На самом деле ему нужно успокоиться, привести свое лицо и тон в порядок. Кроме того, может быть, ему нужно просто побыть в первый и последний раз рядом с этим арестантом наедине, сказать на прощание что-то человеческое или услышать еще что-то. И он слышит: «Я вижу, что совершилась какая-то беда из-за того, что я говорил с этим юношей из Кириафа. У меня, игемон, есть предчувствие, что с ним случится несчастье, и мне его очень жаль». Здесь поразительны все те же, уже известные из предшествующей части разговора особенности поведения арестанта.
Во-первых, он по-прежнему игнорирует нависшую над ним роковую неизбежность смерти, очевидно, потому что в силу своей асоциальности не понимает, каким образом его мысли становятся преступными. Ведь его царство истины эсхатологично – оно вне истории, оно вне профанического измерения бытия, оно вне государства. Оно асоциально, оно представляет собой чисто духовную реальность. Он недальновиден и не понимает непримиримости власти к любым альтернативным воззрениям на ее сущность, к любым способам выхода из зависимости от нее, даже если этот выход чисто виртуален и независимость исключительно духовна.
Во-вторых, он проявляет ту же уже известную альтероцентричность по отношению к другому человеку. Наконец, он проявляет поразительную социальную близорукость (опять-таки вызванную его фундаментальной асоциальностью): он так и не понял, что Иуда – провокатор, участник интриги синедриона, подстроивший все, чтобы получить обличительные свидетельские показания против Иешуа. Но более всего показательно здесь то, что можно было бы счесть нравственной неразборчивостью: ведь для него Иуда – «очень добрый и любознательный человек». Но это не столько неразборчивость, сколько верность принятому воззрению: все люди добрые.
На самом деле человек по природе противоречив: в нем действительно есть образ Божий, а значит, его природе присущи добро, свет, любовь. Но вместе с тем человек по природе также и греховен, в нем есть нечто такое, что обусловлено первородным грехом, суть которого в своевольном отпадении от Бога. Это нечто – подверженность искушению, склонность к греху, падкость на соблазны, способность в ситуации выбора выбрать грех, зло, подлость, низость, выбрать не под давлением обстоятельств, но свободно, по своей воле. На это Иешуа закрывает глаза. И в этом пункте его представления о людях собственно утопичны, и в случае с Иудой это совершенно очевидно.
Иешуа судит о людях по себе, это он – по-настоящему добрый человек, это ему не свойственна склонность к греху, это он не способен ни в каком случае выбрать зло и низость, он в этом отношении непротиворечив, не амбивалентен. Но в реальном мире такими могут быть только святые. Пилат, не имеющий, естественно, представления о святости, чуть позже употребит иное слово – «юродивый», но чаще он называет Иешуа безумным, сумасшедшим. Нет, он не буквально сумасшедший, но все же игнорировать греховность в природе человека – безумие. Здесь – самое слабое место в воззрениях Иешуа. Кстати, здесь воззрения его решительно уклоняются от христианских, поскольку ни Христос, ни Его ученики никогда не игнорировали грех и греховность человека.
Чтобы предать учителя, надо что-то в нем отвергнуть, что-то опровергнуть в его учении. Это и делает Пилат: «Итак, Марк Крысобой, холодный и убежденный палач, люди, которые, как я вижу, тебя били за твои проповеди, разбойники Дисмас и Гестас, убившие со своими присными четырех солдат, и, наконец, грязный предатель Иуда – все они добрые люди?… И настанет царство истины?… Оно никогда не настанет!» Вот его опровержение.
Само по себе оно тоже опровержимо. Ведь истина не в том, что все люди добры в каждый данный момент своего существования. Для Иешуа истина в том, что в духе возможна свобода, что имеющий духовное измерение бытия может покончить (в духе и истине) с низменным профаническим существованием, что человек, извративший в себе образ Божий, может вернуться к себе истинному, к доброму человеку в себе, покончить с амбивалентностью в себе, тем самым подняться над царством кесаря, над властью князя мира сего, в себе самом создать храм истины и жить далее (или хотя бы пытаться жить) так, как и должно жить в царстве истины.
Но Пилат, который мог об этом догадываться, сейчас, чтобы отречься, на все это закрывает глаза, гипертрофируя слабое – опровержимое место в проповеди Иешуа. Отречение (внутреннее) состоялось. И сразу вслед за этим Пилат «возвысил голос, выкликая слова так, чтобы их слышали в саду: — Преступник! Преступник! Преступник!»
И лишь уже отрекшись, Пилат пытается сказать что-то человеческое. Это у него плохо получается, ведь, что бы он ни сказал, как бы ни молился Богу арестант, это не поможет. В течение какого-то времени прокуратор не понимает, что с ним происходит. А потом почему-то говорит: «Ненавистный город». Это продолжает свое дление момент истины. Иешуа – жертва интриги синедриона. Но эта интрига такова, что и сам Пилат стал объектом манипуляции – попал в унизительное положение человека, ставшего, как и Иуда, орудием в чьих-то руках.
Но его положение хуже, чем у Иуды. Тот сознательно выбрал путь провокатора – успешно и с удовольствием реализовал свою греховность. Пилат же вынужден против своей воли (скрываемой, но сильной) делать то, что диктует ловкий и энергичный интриган. Он вынуждаем к отречению от учителя, а соответственно к отрицанию самого себя, к утрате чего-то необыкновенно ценного за миг до его обретения. На него веет холодом смерти, уготованной для арестанта, но и холодом его собственной духовной и нравственной погибели. А это более страшный – омерзительный холод. Обстоятельства – правовой порядок, система власти — но вместе с тем и интрига синедриона вынуждают его стать опять голой функцией, опуститься, унизиться до предательства. Ведь это не Иуда, а он грязный предатель. Вот от этого холода и омерзения он «передернул плечами, как будто озяб, а руки потер, как бы обмывая их». На руках-то – грязь предательства.
То ли на осужденного подействовали слова Пилата («если бы тебя зарезали перед твоим свиданием с Иудою из Кириафа, право, это было бы лучше»), то ли он заметил и верно истолковал эти движения прокуратора, то ли уловил, как тот преобразился за последние минуты, но, наконец, момент истины настает и для Иешуа: «А ты бы меня отпустил, игемон,- неожиданно попросил арестант, и голос его стал тревожен,- я вижу, что меня хотят убить».
Но в новых обстоятельствах Пилат может только с тем же содроганием от переживаемого омерзения подтвердить уже предрешенное им с той минуты, как он взглянул на другой кусок пергамента: «Лицо Пилата исказилось судорогой, он обратил к Иешуа воспаленные, в красных жилках белки глаз и сказал: — Ты полагаешь, несчастный, что римский прокуратор отпустит человека, говорившего то, что говорил ты? О боги, боги! Или ты думаешь, что я готов занять твое место? Я твоих мыслей не разделяю!»
Все точки над i расставлены. Все кончено для Иешуа. Он пытается еще что-то сказать: «Игемон»… Но Пилат резко обрывает его. Почему? Что еще мог сказать, чего не досказал осужденный? Что его царство истины виртуально и к беспорядкам в Ершалаиме и тем более к посягательствам на римскую власть не имеет отношения? Что царство истины не от мира сего? Что он посягнул на иные – не светские авторитеты и догмы? Но все это для Иешуа очевидно и должно было ему казаться очевидным и для Пилата. Может быть, он мог бы сказать иное: перед ним вдруг открылась другая сторона человеческой природы, к этому открытию он не был готов, он, как будет отмечено позднее, растерян, ему нужно собраться с мыслями, с духом, ему нужно для этого время.
Но то, что Пилат вскричал: «Молчать!», позволяет предположить большее: Иешуа в этот момент истины мог сказать Пилату что-то такое о нем, чего игемон не хотел слышать. Он мог бы сказать, что Пилат, как и всякий вообще, есть по сути «добрый человек», и вот только что самому Пилату приоткрылась эта сокрытая в глубине его души правда о нем, приоткрылась возможность устремления его внутреннего человека к духовной свободе и отваге, к истине, к вере, дающей необыкновенные духовные силы. Все это не просто возможность, в мире его души это с ним уже произошло. Это неотменимое событие его внутренней жизни, поднявшее его как личность над унижающим его достоинство детерминизмом социального существования. Он уже другой.
И если этот иной, новый Пилат утверждает приговор, он не просто реализует функцию власти. Он возвращается к социальному детерминизму, но во внешнем мире, не как личность, а как «совокупность общественных отношений». И личность его с этой «совокупностью общественных отношений» входит в непримиримое противоречие. Новый, «обращенный» Пилат уже не может быть прежним. Духовное обращение необратимо. На какое же мучительное раздвоение обрекает себя Пилат, предавая смерти, а главное – предавая как ученик того, кто обратил его, предавая все новое в себе, что только-только приоткрылось ему, и соответственно предавая самого себя в целом. В какой нескончаемой, нестерпимой тоске будет влачить он существование. Его внутреннее «я», сокровенный человек в нем терпит при этом сокрушительное поражение. Если бы это было сказано, момент истины еще раз настал бы для Пилата. Но он не хотел этого слышать. Ему не нужно было это слышать. Его смутная интуиция, очевидно, уже и так все открыла ему.
Mihaly Munkacsy. Ecce Homo!
Второе поражение
Следует заметить, что чем далее продвигается рассмотрение романа о Пилате, тем яснее становится, что перед нами художественное исследование, осуществленное Мастером как человеком своего времени. Предмет же исследования – феномен власти и человек, облеченный властью в ситуации, катастрофической и для самой власти, и для личности, включенной в ее систему. Кульминационная точка этого исследования – встреча Пилата и первосвященника Иосифа Каифы.
Суть происходящего к этому моменту могла представляться Пилату следующим образом. Мирная проповедь Иешуа противостоит принципу власти. Первое: его царство истины, хоть и пассивно, но отрицает власть кесаря. Второе: его храм истины противостоит и храму старой веры, и духовной власти. Если первое разве что теоретически могло быть причиной волнений, то второе практически могло смутить и реально смущало народ в отношении фундаментальных устоев жизни, связанных с законом, которым определялось и сакральное обоснование вертикали духовной власти, и иерархия общественного устройства, и обязанности каждого члена сообщества, и контроль за их исполнением, и предмет верования, и модус веры, и ритуальные правила, и регламентация поведения – всё, до мельчайших деталей.
Тип власти, представляемой первосвященником и синедрионом, может быть охарактеризован как теократия, вырождающаяся в иерократию. Такая власть по характеру своему подобна хорошо знакомой Мастеру идеократии. У нее те же трудности. Дело в том, что такая власть на самом деле весьма уязвима. Ее уязвимость обусловлена тем, что закон, общественное устройство, бытие, порядок – все основывается на некой системе идей. А идеи – опровержимы. Сохранение подобной власти поэтому предполагает реализацию мощной системы охранительных мер. В таком общественном устройстве неприемлема свобода слова и мысли. Но как ни развивай охранительную систему, она не имеет стопроцентной надежности, как ни притесняй свободу, ограничить до конца ее не удается. Ведь вот приходит в подзаконный мир первосвященника Иешуа Га-Ноцри и с легкостью (судя по тексту романа, не за месяцы или недели, а чуть ли не за пару дней) всерьез смущает народ, говоря, что иерархически устроенное, во всех деталях упорядоченное здание («храм старой веры») должно рухнуть.
Это, безусловно, катастрофа, которая может затронуть те самые фундаментальные устои жизни народа. Но более всего она опасна для вертикали духовной власти. Причем в первую очередь становится очевидной ненужность охранительной системы, ее защищающей.На самом деле появление в Ершалаиме этого мирного проповедника показывает, и это должен был уловить Пилат, что духовная власть по-своему тоже висит на волоске. И вынося смертный приговор Иешуа Га-Ноцри, синедрион расписывается в своей слабости: он не может победить мирную проповедь ничем, кроме насилия. Эта власть пуще всего боится таких мирных проповедей, сила которых обусловлена их человечностью, личностной ориентацией, творческим началом, поскольку сама она враждебна личностному началу, по сути бесчеловечна, ориентирована на культивирование раз навсегда заданного, что и является причиной ее слабости и бесперспективности.
Вот это и волнует Иосифа Каифу: мирная проповедь для него страшна, она угрожает его власти. Поэтому он непримирим по отношению к Иешуа Га-Ноцри. Но для того чтобы добиться своей цели, он совершает подмену, изображая дело так, что эта проповедь в первую очередь направлена против власти кесаря. Теоретически Пилат мог бы разоблачить эту подмену. Но тогда дело надо было отдать на суд непредсказуемого Тиберия, со своей стороны непримиримого к малейшему намеку на «оскорбление величества». Непримиримость у него, так же как и у Каифы, обусловлена страхом перед утратой власти. Но тиран, боящийся утраты власти, по-настоящему страшен. Это и останавливает Пилата.
Заметим, что в реальной истории не мирная проповедь учителей праведности (из среды фарисеев или первых христиан) приводит к разрушению храма и рассеянию народа, но именно вооруженное восстание. Объективно для народа, его судьбы, всего строя народной жизни Вар-равван и подобные ему неизмеримо опаснее, чем безумный мечтатель Иешуа. Это сознают и Пилат, и первосвященник. Во всяком случае Пилат как политик, мыслящий весьма реалистично, не только схватывает это, но на этом впоследствии и настаивает. Но Иешуа уже сейчас посягнул на главное с точки зрения первосвященика: на его власть над народом, на авторитет духовной власти.
Боящийся утраты власти готов на все: на подлость, предательство, подмену – цель (сохранение власти) оправдывает любые средства. Боящийся утраты власти по ту сторону добра, свободы, чести, совести. Он ни перед чем не остановится и потому заведомо опаснее Пилата, даже если тот выступает только как функционер, а тем более Пилата, пережившего если не обращение, то раздвоение.
На этапе подготовки процесса над Га-Ноцри и суда в инстанции синедриона, совершив упомянутую подмену, Каифа обыграл Пилата: он его, римского прокуратора, и в его лице римскую власть сделал своим орудием, направив это орудие против Иешуа, на самом деле не в интересах народа, а в интересах верхушки духовной власти – синедриона и первосвященника.
Такова диспозиция взаимоотношений Пилата и Каифы к моменту их встречи наедине. Предугадать неумолимость Каифы было несложно. И все же Пилат делает попытку изменить ход событий. Это мотивировано не только теми изменениями, которые произошли с Пилатом. Его подталкивает к этому также оскорбленное достоинство человека, ставшего помимо его воли орудием в грязном деле. К тому же в его лице унижена римская власть. И тут есть возможность попытаться исправить положение, апеллируя к необходимости уважать эту власть. С этим Пилат и выходит к первосвященнику.
Сказанное объясняет, почему «прокуратор хорошо знал», что на вопрос, кого намерен в честь праздника отпустить синедрион, будет ответ: «Синедрион просит отпустить Вар-раввана». Но он с большим искусством показал, «что такой ответ вызывает его изумление». Он подробно, говоря по существу дела, вскрывая главное, что отличает Вар-раввана от Га-Ноцри, объясняет, почему тот «гораздо опаснее, нежели Га-Ноцри» и просит первосвященника пересмотреть решение. И когда Каифа «вторично сообщает, что намерен освободить Вар-раввана», пускает в ход главный аргумент: «Как? Даже после моего ходатайства? Ходатайства того, в лице которого говорит римская власть?» Но первосвященник, зная, что унижает и лично Пилата, и римскую власть, непреклонен: он не боится власти над ним, он боится только одного – утраты собственной власти над народом.
Неудивительно, что после этого Пилата уносит, «удушая и обжигая, самый страшный гнев, гнев бессилия». Характерна первая реакция Каифы на этот приступ гнева Пилата. Это единственный случай, когда приоткрывается ход мыслей Каифы и становится слышимой для читателя его внутренняя речь. И тут мы узнаем, что он предвидит «все муки, которые еще предстоят», и мысленно проговаривает: «О какой страшный месяц нисан в этом году!» Какие муки? Может быть, он предполагает, что Пилат все же воспротивится исполнению приговора и передаст дело на суд кесаря? Нет. Во-первых, Каифа все хорошо рассчитал и знает, что этот выход невозможен для Пилата. Во-вторых, протокол соблюден, отклонение от него невозможно, после утверждения приговора ничего уже не зависит от Пилата. Да и Пилат ведь уже сказал еще раз: «Хорошо. Да будет так».
Каифа, конечно, может предполагать, что, вступая в конфликт с Пилатом, он должен ждать его мести. Но, обыграв его раз, он может быть уверен, что обыграет еще. Нет, страшно то, что народ в смущении – и именно относительно вертикали духовной власти. Когда спустя несколько минут Каифа говорит: «не мир, не мир принес нам обольститель народа в Ершалаим, и ты, всадник, это прекрасно понимаешь. Ты хотел его выпустить затем, чтобы он смутил народ, над верою надругался и подвел народ под римские мечи. Но я, первосвященник, не дам на поругание веру и защищу народ», — он совершает подмену приоритетов: защита веры и народа для него, конечно, важны, но во вторую очередь, поскольку это связано с сохранением власти.
Пилат в гневе угрожает первосвященнику, дает ему понять, что распознал ход его интриги, в том числе провокаторскую роль Иуды. Но Каифа чувствует, что он сильнее Пилата, и не боится его. Пилату он отвечает бесстрашно. Он и сам может угрожать прокуратору: «Услышит нас, услышит всемогущий кесарь, укроет нас от губителя Пилата!» Для него не имеет силы даже сугубая угроза со стороны Пилата: «Настал теперь мой час, Каифа. Теперь полетит весть от меня самому императору, весть о том, как вы заведомых мятежников в Ершалаиме прячете от смерти». Для Каифы это не более чем размахивание кулаками после драки. В этом раунде борьбы за сохранение собственной власти он победил.
И значение этой победы проясняется, когда он восклицает: «Прислушайся, прокуратор! – Каифа смолк, и прокуратор услыхал опять как бы шум моря, подкатывающего к самым стенам сада Ирода Великого. Этот шум поднимался снизу к ногам и в лицо прокуратору… — Ты слышишь, прокуратор, — тихо повторил первосвященник, — неужели ты скажешь мне, что все это… вызвал жалкий разбойник Вар-равван?»
Дело в том, что народ, о котором так печется первосвященник, взволнован, это море вышло из берегов под влиянием смутивших его речей Га-Ноцри. От того, кто будет сегодня казнен, зависит, вернется ли оно в отведенные ему синедрионом границы. Каифа уже знает: вернется. Контроль духовной власти над народом будет восстановлен. И это главное.
А прокуратор в его глазах – фигура слабая. И слабостей у него – множество. Он слаб в интриге. Его легко сделать объектом манипуляции. Он слаб в отстаивании не только своих интересов, но и авторитета римской власти: он не пошел на крайние меры при этом, потому что боится власти над ним. Он слишком прямолинеен и не умеет, как Каифа, холодно и расчетливо подготавливать неотразимый удар. Люди ему не всегда безразличны, и чья-то жизнь может для него иметь ценность. Он, пожалуй, человечен, и в этом тоже слаб. Он почти добр (хотя бы в данном случае) и тяготеет к справедливости, тогда как носитель власти должен руководствоваться не справедливостью, а целесообразностью.
С точки зрения Каифы он, пожалуй, недальновиден как политик. Ведь ему как прокуратору выгоднее иметь в союзниках первосвященника и синедрион, которые более успешно контролируют свой народ, чем оккупационные власти. Позиция Каифы ограничена его собственными мотивациями, но с этой позиции выходит так, что Пилат слаб, потому что преувеличивает значение прямых бунтовщиков и недооценивает опасность «мирных проповедей».
Он слишком раздражителен по отношению ко всему, что тут творится. Слишком откровенен в выражении ненависти к первосвященнику и его народу. Слишком прям и груб в угрозах. Слишком неадекватен в своей горячности. И откуда эта горячность? Почему он с такой злобой говорит об Иуде: «если бы такой проник сюда, он горько пожалел бы себя»? Что это он: сначала назвал Га-Ноцри явно сумасшедшим человеком, повинным в произнесении нелепых речей, потом юным бродячим юродивым и наконец философом с его мирною проповедью? Уж не подействовала ли и на него эта мирная проповедь?
Если да, то в глазах Каифы это крайняя слабость. Слабость личностная – обаянию речей Га-Ноцри могут поддаваться люди сами по себе слабые, нуждающиеся в том, чтобы другие люди были добрыми и потому легко поддающиеся соответствующей иллюзии. Мало того, пусть бы это был человек из толпы на базаре или праздный зевака, но римскому прокуратору к лицу ли хоть в чем-то быть солидарным с человеком, который всем своим образом жизни и образом мышления отрицает власть как принцип. И это тот, кто еще недавно был свирепым чудовищем! И все это под впечатлением получасового разговора с Га-Ноцри. Так поддаться внушению может только изначально слабый человек.
Он, властитель, готов отказаться от насилия, необходимого атрибута власти, по отношению к тому, кто отрицает власть как таковую. Что это за самоотрицание власти? Что это за раздвоение? До какой слабости нужно дойти, чтобы так выродиться ему как представителю римской власти! Нет, и как властитель прокуратор в глазах Каифы предельно слаб.
И здесь есть для первосвященника принципиальный момент, становящийся поводом к обобщению: идеологически незаангажированная власть на взгляд Каифы ненадежна, потому что эта незаангажированность способствует появлению у ее представителей непредвзятости юридических оценок, тяготения к справедливости, ведет к колебаниям, сомнениям, наконец, может спровоцировать (подумать только!) привлечение, пусть и невысказанных, аргументов этического характера. Система власти, которая допускает к ключевым постам людей, способных поддаться подобному, обречена. Она не может выдержать конкуренции с властью, опирающейся на твердый идейный фундамент и потому непоколебимой и неумолимой. Так что слаба и сама власть светская, но в особенности слаб прокуратор. Неудивительно, что он теперь демонстрирует бессилие.
И, наконец, если уж Пилат так глубоко проникся проповедью Га-Ноцри, то утверждение им приговора есть проявление крайнего малодушия. Не в этом ли причина его гнева? Не стоит ли за этим гневом что-либо еще, например, стыд? А стыд, на взгляд таких, как Каифа, и тем более удел слабых. Малодушие и бессилие, бессилие малодушия – вот что такое Пилат в глазах Каифы. Если прокуратор первосвященника ненавидит, то Каифа Пилата скорее презирает. И в этом невысказанном, но ощутимом презрении Пилат, как в зеркале увидел себя, свое малодушие, бессилие, стыд.
Сколько слабых сторон увидел у Пилата Каифа, столько раз прокуратор унижен первосвященником. Но он-то может помнить о том, что и власть синедриона по природе своей слаба, что слабость эта если не ясна первосвященнику, то по-своему преломляется в его сознании и что Иосифу Каифе знаком свой страх. Так же, как свой страх есть и у императора Тиберия. И у Пилата. Власть и страх неразделимы.
Как ни парадоксально, но все происшедшее, все, что было осознано или прочувствовано Пилатом, может только укреплять его в том новом отношении к власти, которое наметилось в тот момент, когда секретарь подал ему второй кусок пергамента. Власть отныне вызывает в нем, очевидно, смешанные чувства. Здесь есть ненависть и жажда мщения, вызванные ее неумолимой жестокостью и тем, что она делает его предателем, предельно унижая и уничтожая его как личность. Здесь и омерзение, обусловленное ее подлостью и низостью. И презрение, объяснимое ее подверженностью страху.
Власть пребывает в страхе архетипически. Это в природе власти как таковой. Но, возможно, в глазах Пилата светская власть, опирающаяся, конечно, на насилие, но, с его точки зрения, как правило, в рамках, пусть и сурового, но закона, не столь страшна и отвратительна, как та власть, которую представляет Каифа, потому что такая власть порочна по существу, так как удержаться может, как показывает ему теперь его опыт, лишь постольку, поскольку стоит над законом и моралью. Поэтому-то все ожесточение Пилата и направляется против синедриона и первосвященника.
Ожесточение это по силе соответствует сокрушительности поражения, которое потерпел Пилат в столкновении с первосвященником. У этого поражения две стороны. Внешняя связана с тем, что интриган без чести и совести обыгрывает его, делает его марионеткой в своих руках, унижает его как представителя римской власти, показывая, кто на данный момент настоящий хозяин в Ершалаиме. Внутренняя же связана с тем, что Каифа продемонстрировал Пилату всю его слабость. И система представляемой Пилатом власти слабее власти синедриона, поскольку не опирается на твердокаменный идеологический фундамент. И сам он слаб, так как не способен оградить эту власть от унижения.
Но главная его слабость в том, что является слабостью только с точки зрения Каифы и подобных ему, но с позиций нравственного сознания должно получить иную оценку: он может при исполнении властных полномочий поддаться человеческому в себе. Более того, (вот они «слабости», одна пуще другой!): он тоже нуждается в том, чтобы люди были добрыми, его тоже тяготит насилие над людьми, ему тоже нужна справедливость, он поддается обаянию внутренней свободы и отваги, которые чувствует у Га-Ноцри, он сам, очевидно, нуждается в такой свободе и отваге. Нуждается, именно нуждается, ведь с нравственной точки зрения подлинная, главная слабость его – в малодушии.
Как ни странным это может показаться, но именно в этот момент открывается возможность катарсиса. На самом деле потерпеть поражение от Каифы это лучше, чем победить его: ведь его можно поразить лишь его же оружием, но взявший в руки такой меч от этого отравленного меча и погибнет. Поражение Пилата не оборачивается его победой. Но очевидной становится победа Иешуа. Никого не боится бесстрашный первосвященник, а этого нищего из Гамалы боится. И это подтверждение силы экзистенции этого бродяги, силы его веры, его мирной проповеди. И все это накрепко запечатлевается в душе Пилата.
Он претерпел поражение и падение, узнал жгучий стыд, испытал отвращение не только к миру, в который погружен, но и к самому себе. Но без этого обращение его было бы более поверхностным. Нет, поражение это может только укреплять его обращение. И, кроме вызывающей нестерпимую тоску мысли о вечности, он мог бы смутно предчувствовать как отдаленную возможность милость к падшим. А значит, отсюда может быть начат его двухтысячелетний путь к свету.
Тут можно приблизиться к пониманию того, почему Мастер написал роман на такую странную тему. Мастер исследовал природу власти, которая стремится быть безальтернативной, в связи с чем ее носители озабочены в первую очередь удержанием, сохранением ее – во что бы то ни стало, любой ценой. Такая сверхзадача приводит к тому, что власть стремится отбросить все ограничения, стать над законом и моралью. Поэтому для ее природы характерны полная бесконтрольность, неограниченное насилие, тотальное подавление, направленное не только против действий, но и против мыслей альтернативного характера. Соответствующие цели оправдывают любые средства.
Характерно, что язычник Тиберий и олицетворяющий власть духовную первосвященник при этом мало отличаются друг от друга. Впрочем, откровенная жестокость светской власти не столь отвратительна по сравнению с позицией первосвященника, который возводит провокаторство, доносительство и предательство в систему, прикрываясь изощренной демагогией насчет того, что не даст на поругание веру и защитит народ. Но такова уж природа подобного типа власти, хорошо знакомого современникам Мастера в виде идеократии. Карательное законодательство, правовой произвол, применение презумпции виновности, акции устрашения, уголовная наказуемость инакомыслия, идеологический сыск, пренебрежение правами личности и человеческой жизнью, провокации, доносы, ложные обвинения – таково ее лицо.
Что может противостоять такой власти? Вера, духовная свобода, позволяющие выйти из-под ее контроля. Явление такой веры, свободы и обусловленного ими социального бесстрашия дано в романе в лице Иешуа Га-Ноцри. Духовная власть первосвященника его мирной проповеди может противопоставить только физическое истребление. Представителя же светской власти, не опирающегося на твердокаменную идейную традицию, мирная проповедь может впечатлить. Его может захватить экзистенция веры, свободы и отваги.
Как легко и радостно это принять душой и как немыслимо трудно нести бремя такой позиции в жизни, дает понять то, что происходит с Пилатом. Его обращение остается исключительно виртуальным. В реальности он не может сбросить оков социальной детерминированности, поскольку он включен в систему власти. Однако и вообще в исследуемой социальной системе для тех, кто не способен на асоциальную позицию и соответствующее поведение, свобода (мысли, веры, нравственного выбора) могут быть только виртуальными. Здесь и теперь царство истины невозможно, оно настанет после жизни, по скончании времен. В мирах Тиберия и Каифы и в подобных им, как убедился еще раз Пилат, оно никогда не настанет.
Иисус Христос перед Пилатом. Джеймс Тиссо
POST FACTUM
Все дальнейшее для Пилата протекает в модусе post factum. Кульминационная точка его судьбы в романе Мастера отмечена его выкриком: «Молчать!» Тогда-то Пилатом и был перерезан волосок жизни Иешуа. Развязка наступила во время беседы с первосвященником, когда последняя надежда не оправдалась и стала окончательно очевидной неумолимая правда двух слов: «Погиб! – Погибли!» Его гнев бессилия, его восклицания, его последняя прямота, когда «не нужно было больше притворяться, не нужно было подбирать слова» сродни крикам влекомого на казнь, душою уже пребывающего по ту сторону жизни.
Пилат уже внутренне пережил свою смерть, смерть как погибель души. Показательна одна из ремарок в том диалоге: «Пилат мертвыми глазами поглядел на первосвященника». Дальше Пилат существует в своем посмертье. Настоящее бессмертье приходит не для него. Ему уготовано безблагодатное бессмертие погибшей души – вот что вызывает у него нестерпимую тоску и заставляет его похолодеть на солнцепеке. Post factum означает, что главное событие в жизни Пилата уже позади, непоправимое уже состоялось, главный свой поступок, одновременно объективно невозможный и настоятельно необходимый для него же, для его души, совершить Пилат оказался не в силах.
Дальнейшее поначалу, во всяком случае частично, происходит в инерционном режиме. Пущенная в ход машина неумолимо движется в заданном направлении, и Пилат автоматически выполняет то, что определено его ролью в этом механизме. Объявляет о приговоре представителям синедриона, выходит на помост… Правда, «прокуратор в затененной от солнца темными шторами комнате имел свидание с каким-то человеком». Но то, что это имеет отношение к его замыслу хотя бы немного сократить мучения казнимых, станет ясно значительно позже. Однако сигнал о нарушении автоматизма, чистой функциональности в его поведении дан. А значит, раздвоение Пилата сохраняется.
Еще явственнее это ощутимо, когда сообщается, что Пилат «не хотел почему-то видеть группу осужденных», и затем, уже после объявления приговора с помоста, когда «Пилат повернулся и пошел по помосту назад к ступеням, не глядя ни на что, кроме разноцветных шашек настила под ногами. Лишь оказавшись за помостом, в тылу его, Пилат открыл глаза, зная, что теперь он в безопасности – осужденных он видеть уже не мог».
Что ж за опасность подстерегала его? Могло ли что-то произойти непредвиденное? Нет. Мог ли он потерять контроль над собой от гнева, от ярости бессилия? Почти невероятно. Мог ли он в реве толпы услышать хоть что-нибудь, даже если бы Иешуа и сказал что-то? Нет, конечно. Может быть, он боялся стыда? Такая вероятность есть. Ведь действительно, позорность его положения очевидна троим: ему самому, первосвященнику и осужденному Га-Ноцри. Но объективный позор и субъективное переживание стыда – это уже было. Да, повторения этого он не может хотеть. Он с этим хочет замкнуться в себе, наедине с собой отдаться горечи стыда и мукам пробуждающейся совести. Но эта беда уже постигла его, так что и эта опасность позади.
А вот увидеть лицо Га-Ноцри и, что еще страшнее, глаза – это пронзило бы его нестерпимой болью. И то, что Пилат хотел избежать этой опасности, раскрывает и то, кем стал для него осужденный Га-Ноцри, и то, что значит для него состоявшееся. И все же, в чем именно опасность? Увидеть глаза уводимого на казнь – значит еще раз пережить его смерть и вместе с тем смерть своей души. Но ведь Пилат и так переживает это внутри себя. Уже пережил. Так что и эта опасность позади.
Что же он мог увидеть такого, чего еще не видел? – Естественную с точки зрения опыта и здравого смысла слабость осужденного, его ужас, отчаяние, смертную тоску. Этого Пилат у Иешуа не видел. Он видел противоположное. И с этим хотел остаться, чтоб не разрушился сложившийся у него образ безумного мечтателя, философа и врача. С его верой, с его превышающей всякое воображение духовной силой и отвагой. Образ, который отвечал скрытым устремлениям души Пилата. Если бы у него разрушился этот образ, это значило бы для него, что все то, что вело к его обращению, было фальшивым. Вместе с тем рухнуло бы в бездну то, что, пусть только в возможности, обрел обращенный Пилат. В подобном разочаровании он пережил бы вторую смерть, окончательно опустошающую душу. Для него, только-только обращенного, да и то виртуально, весьма неустойчивого в своем новом обращенном состоянии, во внешнем мире отрекшегося от того, кто дал ему образец духовной свободы, силы и отваги, опасно было увидеть даже минутную слабость Иешуа. И он избежал этого. Это теперь тоже позади.
Оба автора, и Мастер, и Булгаков, фиксируют как бы остановку времени для Пилата. В романе Булгакова Пилат появляется вновь лишь спустя двадцать две главы. В повествовании Мастера следующая глава – «Казнь». Но казнь совершается в отсутствие Пилата. Однако когда уже истек четвертый час казни, становится ясным, что дление ее в течение всего этого времени сопровождалось вниманием Пилата. Выждав время сообразно приличиям, он посылает к месту казни трибуна, чтобы прозвучали слова: «Славь великодушного игемона!»
Если бы он был при этом, от него не ускользнуло бы присутствие на месте казни бывшего сборщика податей. Он и, пожалуй, только он мог бы по-настоящему оценить то, как Иешуа, «стараясь, чтобы голос его звучал ласково и убедительно и не добившись этого, хрипло попросил палача: — Дай попить ему». Но Пилат все это время, пока процессия с осужденными двигалась к Лысой горе, пока тянулись часы казни, и потом, пока бушевала гроза, оставался один, во дворце.
Беседа Пилата с Иешуа Га-Ноцри длилась не более получаса. Еще меньше, не более четверти часа продолжалась его встреча наедине с первосвященником. Еще какие-то минуты занял выход на помост и объявление приговора. Но за этот короткий час он успел прикоснуться к благу обращения и ощутить, насколько непосильно его иго и бремя. Для него этот час беспримерен по насыщенности и напряженности. Теперь остановилась бешеная гонка событий. И в состоянии post factum можно, наконец, оглядеться, осмыслить то, что произошло для него во внешнем мире и чем это оборачивается для его внутреннего бытия.
Катастрофа, поражение – это осознается в первую очередь. Состояние его еще перед грозою таково и, соответственно таково выражение лица, что слуга «почему-то» под его взглядом (надо было видеть этот взгляд, чтобы расшифровать это «почему-то») растерялся, взволновался, не смог смотреть в это лицо, в эти глаза, «и прокуратор, рассердившись на него, разбил кувшин о мозаичный пол, проговорив: — Почему в лицо не смотришь, когда подаешь?» Но разве африканцу был адресован этот гнев? Поэтому гнев на слугу и «улетел так же быстро, как и прилетел».
Он видел, как тьма «накрыла ненавидимый прокуратором город», как «все пожрала тьма, напугавшая все живое», как «лишь только дымное черное варево распарывал огонь, из кромешной тьмы взлетала вверх великая глыба храма», как «храм погружался в темную бездну», как он «выскакивал из нее, и опять проваливался, и каждый раз этот провал сопровождался грохотом катастрофы». Пожравшая все тьма, провал в бездну, грохот катастрофы. И провал именно храма как твердыни власти роковой. Это так соответствовало не только настроению, но и желанию Пилата, бурной мечте его ожесточенного страданья.
Когда начался ураган, сквозь рев воды, удары грома и стук града «можно было бы расслышать, что прокуратор что-то бормочет, разговаривая сам с собой». Да, по сути это прение с собой. Это ожесточенный спор личности с функцией. Отсюда его позднейшая формула: «У меня плохая должность». Это полемика виртуально обращенного Пилата с прежним Пилатом.
У прежнего Пилата было инерционное восприятие мира, в котором царят насилие и жестокость. Он реальность принимал как должное, не задумываясь. Теперь – у нового Пилата – инерция мировосприятия нарушена. Он уже вкусил с древа познания добра и зла, для него стала актуальной эта оппозиция. И вот он, душою на миг избравший добро, в реальности оказался орудием зла. И все потому, что у него такая должность: он прокуратор, представитель власти, носитель функции, которая обезличивает и обесчеловечивает человека. Вот что открылось новому Пилату.
Прежде для него непререкаемой была власть, основанная на насилии. Насилие казалось естественным, неизбежным. Новый Пилат усомнился в необходимости повсеместного насилия. Поэтому позже у него вырывается: «У вас тоже плохая должность, Марк. Солдат вы калечите». Характерно, что, стараясь «загладить напрасные слова», он говорит: «Мое положение, повторяю, еще хуже».
Новый Пилат узнал, что миропорядку, основанному на власти как насилии, противостоит царство истины, добра и справедливости. С точки зрения прежнего Пилата такое царство «никогда не настанет». Но тот, для кого актуальна оппозиция добра и зла, может задуматься о необходимости иного миропорядка, в котором право и мораль выше власти. И тогда бессильный гнев его будет направлен против тех, кто такую возможность высокомерно отвергает. И тут его разговор с собой переходит в прение с ними.
Почему все основано на насилии? Ведь оно культивирует трусость. И у тех, кто подвергается насилию, и у самих насильников. Ведь такая власть непременно боится утраты власти и постоянно озабочена одним – ее сохранением. Но в таком случае она будет всегда пренебрегать справедливостью, законом, моралью и милосердием, такая власть неизбежно противозаконна, безнравственна, порочна. Вот пример: власть первосвященника. Он сакрализует власть. Но у него не власть стоит на страже сакрального, а сакральное служит охранению власти, И в результате сакрализованная власть становится источником зла. И опять возникает жажда возмездия, отмщения за зло. За этим жажда того, что можно вообразить, но что остается невозможным: чтоб рухнул в бездну храм сакрализованной власти.
И если «лицо прокуратора с воспаленными последними бессоницами и вином глазами выражает нетерпение», если «он кого-то ждет, нетерпеливо ждет», то ясно, что он ждет не только вестей о казни, он с нетерпением ждет, когда эту мечту можно будет начать приводить в исполнение. Мысль о мщении явилась уже тогда, когда прокуратор сказал: «Побереги себя, первосвященник». Замысел уже оформился. Как станет ясно позднее, деньги для этого были заготовлены заранее и уже были под рукой.
И, наконец, является тот, кого он так нетерпеливо ждет. Это заведующий тайной службой при прокураторе Иудеи. По ходу событий выясняется, что он знает всех и все в Ершалаиме, что у него высококвалифицированные и тонко понимающие дело подчиненные, в том числе и профессиональные убийцы, что у него есть целая сеть тайных агентов, среди которых имеются даже женщины, что у него есть все печати, в том числе и храмовые, что сам он отличается глубоким и тонким пониманием людей, да и вообще всех вопросов, встающих перед ним. Он высокий профессионал, он честолюбив, Вместе с тем он не отягощен никакими предвзятыми идеями, никакими беспредметными идеалами, никакими предрассудками и готов выполнить любой, даже противозаконный, даже преступный приказ. В Ершалаиме у него объем власти, больший, чем у прокуратора и первосвященника.
У этого человека особый взгляд, который он направляет на собеседника тогда, когда тот проговаривается или каким-либо иным образом проявляет то, что хотел бы скрыть. Первый раз он посылает свой особенный взгляд на прокуратора, когда тот задает вопрос о Вар-равване, очевидно, потому что ему ясно: прокуратор нарочито медлит с главными вопросами.
И когда, наконец, Пилат спрашивает о подаваемом осужденным напитке, начальник тайной службы обнаруживает свое понимание особого отношения прокуратора к Иешуа Га-Ноцри: «Да. Но он,- тут гость закрыл глаза,- отказался его выпить». Афраний не ошибся. Пилат не в силах скрыть своего ожесточенного страданья: «Безумец! – сказал Пилат, почему-то гримасничая. Под левым глазом у него задергалась жилка, — умирать от ожогов солнца. Зачем же отказываться от того, что полагается по закону?» И дальнейшие вопросы Пилат задает глухо, то внезапно треснувшим, то, чуть позже, хриплым голосом.
Гость Пилата понимает, какие подробности важны прокуратору. На вопрос: «В каких выражениях он отказался?» — следует ответ: «Он сказал,- опять закрывая глаза, ответил гость,- что благодарит и не винит за то, что у него отняли жизнь. – Кого? – глухо спросил Пилат, — Этого он, игемон, не сказал».
Значит, не винит. Кого мог винить Иешуа? Не исполнителей, конечно. Тех, кто вынес и утвердил приговор. Но вменять вину синедриону и первосвященнику было бы бессмысленно, ведь именно против этой твердыни сакрализованной власти выступил Иешуа. Они ведали, что творили, их враждебность была предопределена уже тогда, когда Иешуа вышел проповедовать: рухнет храм старой веры. Какие претензии к врагу? Ведь смысл существования врага в том, что он враждует против тебя. Другой вопрос, почему Иешуа не вменяет вину утвердившему приговор.
Если речь идет о властной функции прокуратора, то утверждение приговора автоматически вытекает из этой функции. Автоматизм, с которым действует машина власти, основанной на насилии, не оставляет места для выбора. К власти, которую как таковую отрицает Иешуа, не может быть претензий. Тем более что винить или не винить кого-либо он может только в нравственном измерении. Механизму, лишенному выбора, вменять вину нравственную абсолютно бессмысленно.
Если же речь идет о человеке, о личности Понтия Пилата, который на глазах Иешуа пережил раздвоение, сам готов был противостоять своей функциональной роли, сам душою приобщился к проповедуемому, то здесь вменить вину было возможно. Ведь Пилат отступился от Иешуа. Но это отступничество вызвано слабостью. А грех, совершенный по слабости, можно простить. Не оправдать человека, но простить. Значит, все-таки вменить вину, но помиловать, не по справедливости, а по милосердию. Пилат чувствует, знает, что виновен. Иешуа говорит, что не винит. Не потому, что невозможно ему вменить эту вину, а потому, что он вину эту отпускает. Пилат знает, что эти слова адресованы ему, только ему, и должен был бы увидеть в них торжество добра, доброго человека Иешуа, в смертный час не забывшего о нем, отпустившего ему вину.
И дальше Пилат слышит: «Он не был многословен на этот раз. Единственное, что он сказал, это, что в числе человеческих пороков одним из самых главных он считает трусость». Вот тут-то внезапно треснул голос Пилата. То, что и это адресовано ему, для него очевидно. Сказанное не могло не вызвать болезненной реакции. Но оно также требовало напряженного осмысления. Дело в том, что тут в проповеди Иешуа произошел смысловой сдвиг. К безоговорочному утверждению, что все люди добрые, добавилось то, что существуют и человеческие пороки. А порок, по определению авторитетного словаря, «затрагивает самую суть объекта, он неустраним», он «предопределяет итоговую отрицательную оценку объекта», «порок – это нечто абсолютно плохое, присущее объекту, причем самой его глубинной сути, замыслу».
Иешуа, таким образом, успел осмыслить то, что открылось ему в событиях последнего дня его жизни. Он признает теперь амбивалентность человека. Человек – добр по существу, поскольку в нем есть образ Божий. И вместе с тем человек греховен – и тоже по существу: ему присущи отрицательные свойства, затрагивающие самую его суть, свойства абсолютно плохие, что предопределяет или может предопределять итоговую отрицательную оценку тех, кто имеет пороки.
Трусость, по данным того же словаря, порок, потому что трусливый человек избегает опасности, даже когда это противоречит этическим нормам, противоречит должному, приносит вред другим, трусливый нарушает свои обязательства, подводит или предает других людей, так как не имеет душевных сил проявить сопротивление обстоятельствам, поступать в соответствии со своими взглядами или принятыми решениями.
Трусость – не готовность к страху, а готовность к низости, подлости, предательству из страха, «страха ради». Но и греховность – это готовность к падению, пороку, готовность к той же низости и подлости. Вместе с тем здесь есть отличия. Ведь возможна ситуация, когда, поддаваясь греховным влечениям, человек сознательно или бессознательно выбирает грех, падение, соблазн, насилие, поскольку во всем этом – в соблазнительном, подлом, в насилии – находит наслаждение, его влечет сладострастие греха, ему сладостна и подлость, и низость, и предательство. На самом деле порочность такого свойства не имеет оправданий.
Проявляя же трусость, поддаваясь страху, человек из слабости, из-за отсутствия душевных сил, духовной крепости, воли оказывается вынуждаемым грозящей ему опасностью поступать не в соответствии с этическими нормами, со своими собственными взглядами и решениями. Трусость вызывает множество других грехов. Но сама она – проявление человеческой слабости. В ней нет злонамеренности, это вынужденная реакция слабого человека. Значит, и в этом послании Иешуа, адресованном Пилату, речь идет о вынужденном зле, вызванном человеческой слабостью. Ему не вменяется злонамеренность, наслаждение пороком.
Поскольку Иешуа одним из главных пороков считает трусость, это значит, что пороки, связанные с вожделением зла и сладострастием греха, им не принимаются во внимание, таким образом, те, кто к этому склонен, остаются за пределами картины человеческого мира, которая существует в представлении Иешуа. Достаточно того, что у человека есть пороки, которые могут привести его к отрицательному итогу, что трусость есть готовность к другим порокам, а значит, источник и причина порочности человека. Но поскольку трусость это проявление слабости, тот, кто ее проявил – виновен, но ему тоже можно отпустить вину.
Наконец, Пилат слышит последнее об Иешуа: «Он все время пытался заглянуть в глаза то одному, то другому из окружающих и все время улыбался какой-то растерянной улыбкой». Что все это значит? Как мог это понять Пилат? Иешуа мог показаться странным, потому что ему было странно происходящее: волосок перерезан – так быстро. Но что он проявляет? Удивление – да. Растерянность. Но ни сетований, ни протеста, ни страха, ни слабости. И – таинственная улыбка. Что в ней? Прощение, любовь, понимание и приятие высшей воли или что-то еще? Это остается загадкой. Но того, чего опасался на помосте Пилат, — нет.
Mathias Stomer. Christ before Pilate
Обсудив вопросы о погребении и заслугах заведующего тайной службой, Пилат, наконец, переходит к тому, для чего ему нужен именно такой человек, как Афраний. Услышав от прокуратора имя Иуды из Кириафа, Афраний во второй раз посылает Пилату свой взгляд. Как знаток своего дела, он понимает, что все предыдущее было лишь прелюдией, что собственно в этот момент разговора Пилат переходит к главному. И взгляд его говорит, что о сути намерений Пилата он догадывается. Древний закон гласит: «око за око». Возмездие за зло – это нечто естественное с точки зрения Афрания. Существенно здесь и для менее осведомленного человека неожиданно то, что потерпевшей стороной, истцом, требующим отмщения, трактует сам себя и выступает Пилат.
Низменность побуждений Иуды из Кириафа Пилатом предполагалась с самого начала. И все же он задает вопрос о том, что могло бы если не нравственно, то хотя бы психологически оправдать действия Иуды: «Характеристику его вы можете мне дать? Фанатик?» Но услышав: «О, нет, прокуратор», узнав, что «у него есть одна страсть, прокуратор. – Страсть к деньгам», Пилат окончательно убеждается: низкий поступок Иуды – не случайность, он в целом по характеру своему низок. Ему свойственно то, что выходит за пределы предполагаемой у Иешуа картины человеческого мира, — злонамеренность, вожделение зла, наслаждение злом. Он порочен и только порочен по природе – и это итоговый вывод.
И тогда прокуратор говорит: «Я получил сведения о том, что его зарежут сегодня ночью». Нужно не забывать, кому он это говорит. Подобные сведения не могли проникнуть к прокуратору так, чтобы о них и о факте их получения не знал начальник тайной службы. Стало быть, никаких сведений Пилат не получал. «Сведения» эти возникают вот сейчас – в момент его речи. И кому они адресованы и с какою целью, понятно.
И тут – в третий раз Афраний «не только метнул свой взгляд на прокуратора, но даже немного задержал его». И хотя начальник тайной службы возражает: «У меня таких сведений нет», — Пилат настойчиво, упрямо утверждает свое, ссылаясь на свою обязанность все предвидеть («такова моя должность») и на свое предчувствие («ибо никогда еще оно меня не обманывало»). Но главное, он раскрывает суть своего замысла: «Сведение же заключается в том, что кто-то из тайных друзей Га-Ноцри, возмущенный чудовищным предательством этого менялы, сговаривается со своими сообщниками убить его сегодня ночью, а деньги, полученные за предательство, подбросить первосвященнику с запиской: «Возвращаю проклятые деньги!»».
То, что «больше своих неожиданных взглядов начальник тайной службы на игемона не бросал», показывает, что он понял направление затеваемой интриги. Она и ему может быть интересна и полезна, так как подрывает авторитет первосвященника и демонстрирует утрату синедрионом полноты контроля над положением дел в Ершалаиме, вместе с тем усиливая позиции тайной службы и по отношению к синедриону, и по отношению к прокуратору.
Афраний понимает мотивы прокуратора, которым руководит такая жажда мести, что он не может сдерживать своих чувств («тут судорога прошла по лицу прокуратора, и он коротко потер руки»), а главное, прокуратор готов на все. Он не считается ни с чем: ни с трудностями исполнения замысла, ни с его противозаконностью, ни с необходимыми затратами, ни с неизбежными издержками – ведь Пилат в результате, поддаваясь человеческому в себе, своему гневному порыву, по существу передает начальнику тайной службы полноту власти, в том числе дает ему в руки власть над самим собой. Он некоторым образом как бы отрекается от власти в пользу начальника тайной службы. Он как бы символически сбрасывает с себя ее оковы. Может быть, поэтому Пилат и тут коротко потирает руки?
Власть – непереносимое иго для того, кому важно противопоставление добра и зла. И она вовсе не иго для такого, как Афраний, не отягощенного ни идейными соображениями, ни нравственными предрассудками, завидное, ничем не замутненное внутреннее здоровье которого обусловлено тем, что он абсолютно холоден и спокоен, его не тревожат человеческие страсти, он безразличен к добру и не стремится к злу, он не ищет наслаждения в насилии, у него нет жажды подавлять людей, ему чужда сладость подлости и низости, более того, у него нет ни страстного вожделения к власти, ни боязни ее утратить, он озабочен лишь полнотой контроля над обстоятельствами в сфере приложения своих усилий, но при этом он бесстрастен, а потому и может пользоваться властью, как никто, эффективно, он единственный в романе Мастера, кто в полном смысле слова находится по ту сторону добра и зла.
Природа власти такова, что она неизбежно призывает к себе на службу именно таких, она по существу таким принадлежит, лишь до поры до времени тайно, а в благоприятных обстоятельствах и явно. Он может посрамить первосвященника. Его превосходство в этом плане над Каифой да и над собой признает Пилат, потому и прибегает к его помощи. Но власть от Пилата ускользает, с чем он, впрочем, пожалуй, и согласен. И в этом случае человек в Пилате победил прокуратора. Но цена – не только фактическая, хотя и скрытая утрата власти. Приняв решение, передав ход событий в руки Афрания, Пилат и во внешнем своем бытии, и внутренне погружается в абсолютную безблагодатность.
Помилование
Не удивительно, что после ухода Афрания Пилат «на глазах постарел, сгорбился и, кроме того, стал тревожен». Он в воображении пережил смерть и после этого еще раз открыл ей двери. Рядом ходит смерть, и жертвы ее действительно могут померещиться ему. Но главное то, что «за сегодняшний день уже второй раз на него пала тоска». Он объясняет себе это так: «Ему ясно было, что сегодня днем он что-то безвозвратно упустил, и теперь он упущенное хочет исправить какими-то мелкими и ничтожными, а главное, запоздавшими действиями».
Он все глубже осознает значение для него встречи с Иешуа, значение для него (и не только для него) этой личности, значение присутствия в мире подобной экзистенции, лишь слабой тенью которой является сама по себе мирная проповедь, услышанная им. Он упустил возможность дать этой личности с ее удивительной экзистенцией продолжать свое внешне как будто очень слабое, но по существу такое важное воздействие на бытие, он упустил возможность для себя в дальнейшем соприкосновения с этой экзистенцией. Он упустил возможность через это соприкосновение обрести себя, сохранить в себе то, что только наметилось при встрече с Иешуа.
Есть фундаментальное несоответствие между тем, какое значение для него все это приобрело, и тем концом, который постиг Иешуа и вместе с тем всё, что могло явиться в мире и внутреннем бытии Пилата. И то, что он теперь совершает – мщение – безблагодатно и потому, что ничего не исправляет и исправить не может, и потому, что между утраченным и (пусть даже справедливым) возмездием есть то же фундаментальное несоответствие. Возмездие ничего не возмещает и не возвращает. Оно не дает подлинного удовлетворения, потому что удовлетворяет только жажду мщения, потому что умножает зло, насилие, открывает дорогу смерти. Но утрата остается не восполненной и невосполнимой.
Восполнение возможно теперь лишь во сне, лишь виртуально. Такой сон дарован Пилату. В нем «рядом с ним шел бродячий философ… Казни не было!» Вот что присутствует в глубинах его сознания, раскрываемых посредством сна: стремление отменить происшедшее, сделать его не бывшим, вернуться к тому моменту, когда это можно было предотвратить. Это очень характерно для сознания раскаявшегося в содеянном человека. В раскаянии человек готов отдать многое, заплатить самую дорогую цену, только бы не было того, что на самом деле было.
Вот и Пилат на свой собственный вопрос: «Неужели вы… допускаете, что из-за человека, совершившего преступление против кесаря, погубит свою карьеру прокуратор Иудеи?» — отвечает: «Да, да… Разумеется, погубит. Утром бы еще не погубил, а теперь, ночью, взвесив все, согласен погубить. Он пойдет на все, чтобы спасти от казни решительно ни в чем не виноватого безумного мечтателя и врача!»
В этом сне опять речь заходит о трусости. Но – такова коррекция, которую совершает сознание Пилата,- она трактуется несколько иначе, здесь это уже не один из главных пороков, в пилатовом сне Иешуа говорит: «И трусость, несомненно, один из самых страшных пороков». И вот ответ, который теперь формулирует Пилат: «Нет, философ, я тебе возражаю: это самый страшный порок». Он страшен, потому что в результате происходит разрушение личности того, кто проявил трусость. Он теряет себя – и теряет самое главное, самое ценное и в мире, и в самом себе. Этот порок страшен, и с этим должен был бы согласиться Иешуа, потому что человек при этом порывает с тем, что является источником духовной крепости, свободы и отваги,- с верой в ту высшую силу, о которой сказано: «Согласись, что перерезать волосок уже наверное может лишь тот, кто подвесил».
Иешуа ушел из жизни, сохранив до последнего мгновения эту веру, а потому свободу, отвагу, человечность. Тот, кто не имеет этой веры, кто струсил, теряет всё: свободу, достоинство, силы противостоять злу, способность творить добро. Для нового Пилата все это оказывается настолько важным, что он – именно он трактует трусость как самый страшный порок.
Его раздвоенность сохраняется, разбуженный возвращением Афрания, услышав о том, что Иуду зарезали, он испытывает нечто такое, что «Афранию показалось, что на него глядят четыре глаза – собачьи и волчьи». Пилат с жадным любопытством выспрашивает о подробностях, у него сверкают глаза, когда Афраний рассказывает, что во дворце первосвященника происшедшее вызвало большое волнение. Он вдохновенно выдвигает свои версии – и, что весьма показательно, версию о самоубийстве Иуды, очевидно, не без основания предполагая, что это в особенности унизит уже посрамленного первосвященника, а потому косвенно дает соответствующее указание Афранию: «Я готов поручиться, что через самое короткое время слухи об этом поползут по всему городу». Тут понятливый Афраний «метнул в прокуратора свой взгляд, подумал и ответил: — Это может быть, прокуратор».
Он торжествует, как мог бы торжествовать прежний Пилат, которого не коснулась даже возможность обращения. Торжествующее чувство мести, торжество подготавливаемого унижения первосвященника – все это, конечно торжество над злом, но только еще большего зла. Это безблагодатная победа, это продолжающееся хождение по кругам зла.
Но вот, наконец, эта инерция прерывается – разговор переходит к теме погребения. Реакции Пилата меняются. Они подобны тем, что были, когда Афраний рассказывал о последних словах Иешуа. Он опять бросает короткие реплики и задает вопросы хрипло, мрачно, сдавленным голосом, морщась. Услышав, что одного тела на верхушке холма не было обнаружено, «Пилат вздрогнул, сказал хрипло: — Ах, как же я этого не предвидел». Он тут же догадывается, что тело Иешуа было взято Левием Матвеем.
Чем мог так взволновать его бывший сборщик податей, а теперь оборванный бродяга, ясно: для Пилата очевидно, что этот человек беззаветно любит Иешуа. Он был где-то рядом, когда совершалась казнь. Он похитил тело Иешуа со столба. Через некоторое время Пилат скажет Левию: «Не будь ревнив». Но и сам он испытывает ревнивое чувство, а может быть, и зависть. Ведь очевидно, что любовь Левия к Иешуа несравненно сильнее того колеблющегося, робкого, до конца не определившегося и не раскрывшегося, задавленного чувства, которое появилось у Пилата.
Любовь делает Левия отчаянно смелым, безумно дерзким. Вот этой смелости, пренебрегающей собственной жизнью, и мог позавидовать Пилат. Уличенный в трусости, он чувствует свою ущербность и слабость перед этим человеком. Может быть, поэтому, когда появился Левий Матвей, «прокуратор изучал пришедшего человека жадными и немного испуганными глазами». За время рассказа о нем Афрания Пилат успел многое пережить и понять. Потому-то он смотрит на Левия, как «смотрят на того, о ком слышали много, о ком и сами думали».
Но зачем «нужно было повидать этого Левия Матвея» прокуратору? Какие ему «нужны подробности по делу Иешуа»? Конечно, ему интересен этот единственный в романе Мастера ученик Иешуа. Он, как и его учитель, совершенно бесстрашен. Но каковы корни его отваги? Он был ближе всех к тому, кто являл собою олицетворение добра. Преобразился ли он под влиянием учения Иешуа? Что он понял в нем? Что сохранил из него в своих записях? Пока известно лишь, что деньги ему стали ненавистны. И известны слова Иешуа: «Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил»
И вот он появился. Он «смотрел по-волчьи, исподлобья». Он глядит мрачно, а потом и с ненавистью, он дважды улыбается «столь недоброй улыбкой», что лицо его обезображивается совершенно. Для Пилата очевидно, что он горит страстью, рассказанное Афранием о его отчаянии и злобе, о том, как он угрожал и проклинал, подтверждается. Подтверждаются и слова Иешуа о его пергаменте. Пилату удалось разобрать, что «записанное представляет собою несвязную цепь каких-то изречений, каких-то дат, хозяйственных заметок и поэтических отрывков». Вот что ему удалось прочесть: «Смерти нет. Вчера мы ели сладкие весенние баккуроты… Мы увидим чистую реку воды жизни… Человечество будет смотреть на солнце сквозь прозрачный кристалл». Тому, что узнал об Иешуа Пилат, соответствует лишь записанное в последних строчках пергамента: «большего порока… трусость».
И когда Левий являет свою бесстрашную непреклонность, отказываясь от всего предложенного, говоря: «Ты будешь меня бояться. Тебе не очень-то легко будет смотреть в лицо мне после того, как ты его убил», Пилат делает вывод: «Ты, я знаю, считаешь себя учеником Иешуа, но я тебе скажу, что ты не усвоил ничего из того, чему он тебя учил. Ибо, если б это было так, ты обязательно взял бы у меня что-нибудь. Имей в виду, что он перед смертью сказал, что он никого не винит,- Пилат значительно поднял палец, лицо Пилата дергалось. – И сам он непременно взял бы что-нибудь. Ты жесток, а тот жестоким не был».
Жестокий прокуратор видит человека, с которым ему легко отождествиться. Этот человек так же, как он, амбивалентен. Его точно так же захватывает ненависть и злоба. И вместе с тем он так же охвачен любовью, только его любовь не была и не может быть замутнена трусостью. Да, этот человек пока ничего не понял и не усвоил сознательно. Он остался несовершенным и еще не пережил внутреннего преображения. Он из-за своей ненависти и злобы может погибнуть и погубить в себе еще не развившиеся плоды своей любви.
Но сердце его сделало выбор, приняло в себя во всей полноте образ безумного мечтателя, не сделавшего никому в жизни ни малейшего зла, охватило его всей полнотой своей беззаветной любви. И сердце обрело безумную отвагу. Оно не отдаст этой любви. Читатель знает, а Пилат может догадываться, что Левий готов был пойти на муки смерти на столбе вместо Иешуа. Читатель знает, а Пилат узнает через минуту, что Левий Матвей готов за Иешуа отдать не только жизнь – душу, бессмертную душу. Он ведь бога проклинал, требуя прекращения страданий Иешуа. Вот та сила, перед которой меркнет прямолинейное могущество кесаря, мощь изощренной охранительной системы первосвященника и всепроникающая власть начальника тайной службы. Пилат обнаружил то, что сильнее их всех, нашел того, кто владеет этой силой.
А Левий «вдруг приблизился к столу, уперся в него обеими руками и, глядя горящими глазами на прокуратора, зашептал ему: — Ты, игемон, знай, что я в Ершалаиме зарежу одного человека». Этот человек – Иуда. Когда Пилат услышал это, «наслаждение выразилось в глазах прокуратора». Дело, конечно, в том, что он может сказать Левию: «Иуду этой ночью уже зарезали». И добавить: «не будь ревнив, я боюсь, что были поклонники у него и кроме тебя». А потом сказать: «Этого, конечно, маловато, сделанного, но все-таки это сделал я». Сказать – и поразить Левия. Сказать – и добиться того, чтобы «Левий подумал, стал смягчаться».
Его наслаждение вызвано и тем, что он увидел: в страстном гневном бессилии и жажде мщения Левий тождествен ему, а значит, и он, Пилат, может отождествиться с ним, действительным учеником Иешуа, так что и Левий, жаждавший мщения, не сможет отрицать эту тождественность, а вместе с тем и то, что в числе поклонников Иешуа может найтись место и для Пилата. А значит, Пилат может надеяться найти понимание своего отчаянного ожесточенного страдания.
Но главная причина наслаждения в глазах прокуратора в том, что заявление Левия («Я зарежу Иуду из Кириафа, я этому посвящу остаток жизни») многое меняет. Теперь совершенное по воле Пилата убийство Иуды приобретает новый смысл: Пилат избавляет Левия от погибельного для души бывшего сборщика податей осуществления мести. То, что Пилат взял это мщенье на себя и тем самым освободил от этого Левия, вырывает Левия из порочного круга, где нет благодати, нет победы добра, где зло наказуется злом, где человек, вершащий, пусть даже справедливое, возмездие, душу свою погружает в бездну зла.
Осознает ли это Пилат или только ощущает некое странное облегчение своего душевного состояния, не важно. Важно, что объективно положение дел таково, что в соответствии с высшим промыслом, а точнее с замыслом Мастера, с логикой изображенных им событий и характеров Пилату объективно дарована возможность приобщиться к одному из фундаментальных качеств, присущих Иешуа: он приобщается к альтероцентризму, причем уже не в мыслях или чувствах, но через действие. Убийство Иуды оказывается наполненным не только негативным смыслом безблагодатного мщения, но приобретает положительную осмысленность действия, совершенного для другого человека – ради его спасения.
Он приобщается и к свободе, ведь он в результате освобождает от зла, от необходимости идти на убийство, от мстительной страсти другого человека. Из-за любви к Иешуа Пилат идет на убийство Иуды, тем самым губит еще раз свою душу. Но дело оборачивается так, что этим, то есть тем, что он губит свою душу, он спасает душу Левия, он берет на себя то, что могло препятствовать этой душе взрастить плоды приобщения к личности Иешуа, к его учению, плоды своей любви. Он дает ему возможность во всей полноте развить свою любовь, раскрыться через нее. Он спасает эту любовь, которую теперь не очернит убийство. Эта любовь останется чистой и будет напоминать тот прозрачный кристалл, сквозь который можно смотреть на солнце, будет подобна чистой реке воды жизни.
Так появляется последний и, может быть, самый сильный мотив к помилованию виновного в смерти Иешуа и в смерти Иуды Пилата. Вот откуда то неожиданное на фоне всех предыдущих событий ощущение удивительного покоя, возникающее в конце последней главы романа Мастера: «Прошел час. Левия не было во дворце. Теперь тишину рассвета нарушал только тихий шум шагов часовых в саду. Луна быстро выцветала, на другом краю неба было видно беловатое пятнышко утренней звезды. Светильники давным-давно погасли. На ложе лежал прокуратор. Положив руку под щеку, он спал и дышал беззвучно. Рядом с ним спал Банга. Так встретил рассвет пятнадцатого нисана пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат».
POST SCRIPTUM
Мастер написал все это и с этим вышел в жизнь. Почему же его жизнь в результате кончилась? Дело в том, что с внешней точки зрения, которая в первую очередь схватывает поверхностный слой повествования, было ясно, что в его романе поставлен эксперимент, цель которого проследить, как проходят служители власти испытание через встречу с олицетворенным безусловным добром, олицетворенной безусловной духовной свободой, олицетворенной безусловной верой, которой обусловлены свобода и отвага того, кто наделен ею.
Среди тех, кто проходит это испытание в романе Мастера, и Левий Матвей, рядовой чиновник, сборщик податей, и первосвященник, и начальник тайной службы, и прокуратор. В обобщенном представлении результаты этого эксперимента таковы. Проще всего отказаться служить власти простому сборщику податей. Он-то может бросить деньги на дорогу и последовать за тем, кто поразил его своим учением и экзистенцией. Тем же, кто вознесен на высшие ступени власти, пройти испытание этой встречей трудно.
Страшным оказывается месяц нисан для первосвященника. Носитель духовной власти, представитель традиции, которую он в силу своего положения должен защищать, явление олицетворенного добра и свободы воспринимает как посягательство на его власть и его доктринальную веру и пускает в ход всю мощь охранительных мер, не церемонясь со средствами, ибо цель – сохранение власти и сакрализующих ее доктрин — оправдывает любые действия, да и цели его по сути таковы, что их не могут деформировать самые низменные средства.
Эффективность этой ветви власти в силу ее охранительной изощренности весьма высока. Но эффективность эта как раз ограничивается необходимостью охранять традицию. В результате первосвященник сам не замечает, как реальная опасность подменяется в его глазах виртуальной, по сути мнимой: проповедь Га-Ноцри угрожала не столько его власти как таковой, сколько охраняемой властью обветшавшей совокупности догм. Но в том-то и дело, что если власть отождествляет себя с этими стареющими доктринами, тогда и мирная проповедь угрожает ей (и, конечно, ей, а не бытию народа). Доктринальная заангажированность делает эту ветвь власти уязвимой, истощает ее, требуя все новых и новых охранительных мер, лишает ее перспективы, ее косность не дает ей возможности приспосабливаться к новым условиям, ведет к оцепенению, законсервированности. Ее противодействие свободе, личностному началу и человечности нарастает и может только нарастать.
Сложно и драматично складываются обстоятельства этой встречи у вознесенного к вершинам власти человека с умом и сердцем, для которого возможна, а порой и неизбежна актуализация противопоставления добра и зла, который способен почувствовать и оценить явление добра, свободы и отваги, в котором должность не истребила до конца человека. И поскольку он остается человеком, он, пусть лишь в исключительных обстоятельствах, но все же может избрать душой добро, войти в противоречие со своей функциональной ролью, воспротивиться жесткому детерминизму своего положения. У него потенциально присутствует конфликтность по отношению к своему статусу служителя власти. Отсюда его изначальное объективное неполное соответствие должности и возникающая в определенный момент субъективная оценка своего положения («у меня плохая должность»).
Но при встрече с безусловным добром этот дремлющий конфликт переходит в катастрофу. Пилат входит в непримиримое противоречие с властью как таковой с ее жестким детерминизмом, неукоснительно требующим того, против чего восстает его душа. Он подрывает свое положение, входя в противостояние с другой ветвью власти, которая неизмеримо сильнее именно потому, что, будучи твердокаменной в своей доктринальной косности, крайне изощренной в своей охранительной активности, пренебрегающей законом и моралью в своем самоутверждении, хорошо защищена от всего человеческого.
Пилат в противостоянии ей не находит иного пути, кроме как обратиться к другой ветви власти, совершенно неуязвимой в силу абсолютной свободы от закона и морали, которая может быть абсолютно прагматичной по причине отсутствия у нее какой бы то ни было заангажированности. Эта ветвь представлена начальником тайной службы, в соответсвии со спецификой своей профессии находящегося по ту сторону добра и зла, на которого поэтому не может произвести никакого впечатления ни добро, ни свобода, ни тот, кто наделен ими в высшей степени, для которого встреча с Иешуа, столь значимая для Каифы и для Пилата, не может быть испытанием. Он остается невозмутимым, а потому бесстрастно контролирующим все, что находится в сфере его полномочий, являющим собою в связи с этим образец эффективного служителя власти.
Даже если всё это и не было ясно понято критиками Мастера, а только хоть отчасти померещилось им, могло ли оно не вызвать у них ярости от того, что такая художественная правда, жесточайшим образом неприемлемая для них, им по прочтении романа Мастера в непосредственном восприятии дана, но сказать о ней немыслимо. Вот они и говорили не то, что хотели бы сказать. Не эти ли, до конца не уясненные, но предощущаемые ими выводы заставляли их называть роман Мастера вылазкой врага, а его самого врагом под крылом редактора. Вызывали то самое впечатление от их писаний («что-то на редкость фальшивое и неуверенное чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей»), не эти ли выводы имелись в виду острым на язык критиком Лавровичем, нашедшим для них обобщающий концепт, который был им назван злым и метким словом «пилатчина».
Но если все сводится к пилатчине, тогда роман Мастера оказывается посвященным теме власти и ее ветвей, власти, которая зиждется на насилии и страхе и культивирует трусость, власти, которая и сама проникнута страхом, теме несоответствия властной должности человека с умом и сердцем, теме превосходства идеократии над властью, которая опирается на право и не чужда морали, теме необходимости для любой власти тайных служб и провокаторов, теме всевластия этих тайных служб, теме провокации, теме неизбежности в подобном общественном устройстве трусости и предательства… И ведь действительно все это в романе Мастера было, то есть была в нем пилатчина.
Но к пилатчине повествование о Понтии Пилате не сводится. Художественное исследование Мастера выходит за рамки поставленного им эксперимента. Замысел и Мастера, и его создателя шире и глубже. Для них важны и другие темы, тесно связанные с их собственными мотивациями и с текстом всего романа М.А. Булгакова. Вспомним хотя бы Левия Матвея, у которого Иешуа Га-Ноцри вызвал поразительную по силе любовь. Он обыкновенный и очень живой человек, противоречивый, амбивалентный, страстный. Его любовь так горяча, что он готов и жизнь свою, и бессмертную душу погубить ради того, кого любит. И действительно оказывается на краю духовной погибели. Но высший промысел милосерден к нему, очевидно же, принимая во внимание силу его любви.
Странно ли после этого, что с ним отождествляет себя Маргарита – и не только потому, что так же, как Левий Матвей, опоздала, но – главное – потому что и она душу свою не только готова погубить – губит ради своей любви, ради того, кого любит.
Сам Булгаков главным пороком считал трусость и себя корил за приступы робости, находил им объяснение и все же утверждал: «Оправдание есть, но утешения нет». Он, конечно, при написании романа мысленно отождествлял себя с Мастером. Но Мастер-то, судя по его повествованию, эмпатию проявляет к Пилату, а не к кому-либо иному, прослеживая все тонкости его поведения, реакций, мыслей, чувств, ведя повествование почти постоянно с его точки зрения. А значит, он мысленно отождествляется с Пилатом.
Это не исключает иных параллелей – с Иешуа и Левием. Ведь Мастер сам по-своему асоциален. Он, правда, не бросал деньги на дорогу, как Левий, а принял выигранные сто тысяч, чтобы сначала выпасть из социума, а затем вернуться в него, но не с проповедью духовной свободы и добра, не с той удивительной экзистенцией, котрую он открыл у Иешуа Га-Ноцри, но, как показали дальнейшие события, сам не обрел, а с романом. С романом, где речь идет о несовместимости подобной проповеди и экзистенции с наличным и в прошлом, и, очевидно, в настоящем общественным устройством. С романом, где главная роль принадлежит Понтию Пилату, для которого обращение, вызванное поразившей его проповедью и экзистенцией, оказалось непосильным игом и бременем, что приводит его поэтому к духовной и нравственной катастрофе.
Что сублимирует при этом Мастер, от чего освобождается, вскрывая с таким пониманием внутреннюю жизнь своего героя, остается неизвестным. Но повествование о судьбе Пилата столь выстрадано, что не остается сомнений: за этим стоит глубокая личная боль и Мастера, и его создателя.
Не удивительно поэтому, что на последних страницах эпилога к «Мастеру и Маргарите» повествуется о сне Ивана, в котором Пилат говорит: «Какая пошлая казнь! Но ты мне, пожалуйста, скажи,- тут лицо из надменного превращается в умоляющее,- ведь ее не было! Молю тебя, скажи, не было? – Ну, конечно, не было,- отвечает хриплым голосом спутник. – И ты можешь поклясться в этом? – заискивающе просит человек в плаще. – Клянусь,- отвечает спутник, и глаза его почему-то улыбаются. — Больше мне ничего не нужно,- сорванным голосом вскрикивает человек в плаще».
Представленное в этом сне чрезвычайно важно для автора «Мастера и Маргариты». Здесь осуществляется вторая попытка дать окончательное завершение повествования о Понтии Пилате, которое врывается в текст романа Булгакова. Не случайно и то, что полное совпадение задуманным Мастером в самом начале финальным словам его романа мы находим в конце главы «Прощение и вечный приют». В ее начале есть слова: «Это знает уставший». Что знает уставший Мастер? Не только то, что стало его судьбой после публикации глав из романа, но и все то, что было в этом романе, где он столь многое угадал из своего будущего. Угадал, потому что имел скорбный опыт, который и дал ему возможность столь глубоко понять Пилата. Что же важно для Мастера в судьбе прокуратора из того, что выходит за пределы содержания концепта «пилатчина»? Следует за этим еще раз обратиться к перипетиям развертывания его романа.
Пилат переживает внутреннюю катастрофу, срываясь с подъема так и не успевшего осуществиться обращения и низвергаясь в черный провал трусости и предательства. Его сжигает отчаяние, ожесточение, страстное желание мщенья. Он жаждет зла для тех, кто, по его мнению, этого заслуживает. И погибает в жестоких нравственных муках. Только чудо могло спасти его. И чудо совершается. Дело не только в том, что Иешуа посылает ему весть, что вину его отпускает. Дело и в том, что провидение так направляет ход событий, что он, жаждавший мести, убийства, зла и осуществивший все это, тем самым совершает благо для другого человека. А это устанавливает содержательную связь и с эпиграфом к «Мастеру и Маргарите» (ведь именно здесь желающий зла совершает благо), и с широким контекстом романа М.Булгакова, объясняя, почему о романе Мастера сказано, что он не окончен. Ведь совершающий благо, спасающий, полагающий душу свою за другого, может быть помилован, освобожден от томления в безблагодатной вечности, попросту говоря, может быть окончательно прощен. А полностью прощенный узнает то, что некогда было названо «милость к падшим»,он возвращается к общению с тем, кто его простил. Потому и кричит Пилату уже пребывающий в инобытии Мастер: «Свободен! Свободен! Он ждет тебя!»
И потому для уходящего к своему вечному дому Мастера (да и для его создателя) так важно, что о его герое можно сказать, что «он ушел в бездну» (в светлую бездну!), «прощенный в ночь на воскресенье сын короля-звездочета, жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат».
На анонсе: Понтий Пилат. Автор: Андрей Шишкин. Иван Глазунов. «Распни Его!» (коллаж)
Find more like this: АНАЛИТИКА