 24 ноября 2011 года скончался замечательный русский писатель и общественный деятель Леонид Иванович Бородин.
24 ноября 2011 года скончался замечательный русский писатель и общественный деятель Леонид Иванович Бородин.
Рассказывает доктор филологических наук, заведующая Отделом культуры журнала «Москва» Капитолина Кокшенева.
Строчки, вынесенные в заголовок, из очень давнего стихотворения Леонида Ивановича — запомнились навсегда, — наверное, потому, что очень уж они бородинские. Ведь Леонид Бородин отсидел свой первый лагерный срок за активное участие во «Всероссийском Социал-Христианском Союзе освобождения народа» не будучи даже крещеным. Так бывает: он сначала принял христианство, а уже потом — крещение. Но ни тогда (в антисоветский период жизни), ни потом (в перестроечно-угарный) он НЕ примет «Богородицу с серпом и молотом» (коммуно-христианство, коего и нынче в достатке). И это тоже так на него похоже, повторяющего всегда, что первый лагерный срок — это его школа и университеты.
* * *
 Он родился в Сибири (г.Иркутск) 14 апреля 1938 года. В 1956 г. поступил в Иркутский университет, но вскоре был арестован за участие в деятельности нелегальной студенческой группы (исключен из комсомола и университета). В 1962 г. закончил Педагогический институт в Улан-Удэ. Работал учителем и директором школы. Переехав в Ленинградскую область, начал работу над диссертацией «Философские взгляды Бердяева». В 1965 году вступил во ВСХСОН — Всероссийский Социал-Христианский Союз Освобождения Народа, за активную деятельность в котором был приговорен в 1968 г. к 6-ти годам лишения свободы в лагерях строгого режима.
Он родился в Сибири (г.Иркутск) 14 апреля 1938 года. В 1956 г. поступил в Иркутский университет, но вскоре был арестован за участие в деятельности нелегальной студенческой группы (исключен из комсомола и университета). В 1962 г. закончил Педагогический институт в Улан-Удэ. Работал учителем и директором школы. Переехав в Ленинградскую область, начал работу над диссертацией «Философские взгляды Бердяева». В 1965 году вступил во ВСХСОН — Всероссийский Социал-Христианский Союз Освобождения Народа, за активную деятельность в котором был приговорен в 1968 г. к 6-ти годам лишения свободы в лагерях строгого режима.
Писать начал в конце 60-х годов. Три первые книги опубликованы за рубежом, в издательстве «Посев»: «Повесть странного времени»(1978), «Год чуда и печали» (1981), «Третья правда» (1981).
Освободился в 1973 г., однако, Леонида Бородина «не исправили» ни мордовские лагеря, ни Владимирская тюрьма. Он печатает свои произведения за границей, но также и в отечественных самиздатских журналах «Вече», «Земля»; издает собственный журнал национального толка «Московский Сборник»; активно поддерживает «инакомыслящих», в т.ч. А.И. Солженицына, В.Н. Осипова и др..В 1982 г. вновь был арестован и вновь осужден (секретные документы КГБ настоятельно указывали на наибольшую опасность «русистов» среди других оппозиционных политтечений, а потому настойчивое внесение его в списки «правозащитников» в нынешнем либеральном понимании «прав человека» — мягко говоря, — ложь!)). Приговор — 10 лет лагерей особого режима со ссылкой на 5 лет. И этот срок был очень тяжелым, «был лишним», — как говорил Леонид Иванович. Если бы не освобождение в 1987 году, он, по его словам, вряд ли бы его выдержал (попросту физически не выжил).
Выпавший из поколения, он не попал ни в какое «литературное течение» — ни к «деревенщикам», ни к «городским», ни к шестидесятникам, ни к «анти». В творчестве Леонида Бородина есть свои постоянные темы: интеллигенция (с ее осознанием себя) и философия Родины, проблема верности идее и вопрос выбора, диссидентский мир и его болезни. В любом его произведении есть мощнейший нравственный императив: как должно жить человеку, как уберечь свою честь и совесть и во времена великих смут и потрясений, и в годы официально-застойной народности («Расставание», «Ловушка для Адама», «Божеполье», «Трики или Хроника злобы дней», «Бесиво», автобиографическая проза «Без выбора»). Если «Ловушка для Адама» — повесть философская, то «Царица Смуты» — историческая. «Царица Смуты» — это повесть писателя-государственника о государственном нестроении, о столкновении России и Европы, об удивительной страстной женщине Марине Мнишек, ставшей заложницей великого исторического противостояния.
 Он считал, что нельзя по совести разрешить вопрос о правах человека без вопроса о правах России. Он полагал, что интеллигент, освобожденный обществом для дум высоких просто обязан все свои теории по улучшению жизни проверять на себе. И он сам, лично, проверял, получая тюремную пайку вместо официального советского пайка.
Он считал, что нельзя по совести разрешить вопрос о правах человека без вопроса о правах России. Он полагал, что интеллигент, освобожденный обществом для дум высоких просто обязан все свои теории по улучшению жизни проверять на себе. И он сам, лично, проверял, получая тюремную пайку вместо официального советского пайка.
Он честно признавался, что никогда и не мечтал, что станет главным редактором столичного журнала. И вот, с 1992 года Леонид Бородин — главный редактор журнала русской культуры «Москва». Журнал стал единственным из «толстяков», где есть раздел «Домашняя Церковь» (это было так давно, что никак не припишешь тут дань моде). Двадцать лет, которые он стоял у руля нашего журнала — это двадцать лет идеологической борьбы в самое переломное и для него всегда смутное время России. Он полагал до последнего своего дня, что Смута в России продолжается.
Бородин легко мог сделать политическую карьеру — с его-то биографией можно было запросто хоть в партию «нового типа» податься, хоть в Думу попасть, стоило лишь чуть-чуть откорректировать свои убеждения. А он, напротив, стал твердокаменным государственником (настолько твердым, что лагерная кличка «железный Бородин» иногда казалась мягкой). Все эти годы Бородин держал, безусловно, антилиберальный курс (под либерализмом здесь имеются в виду наши доморощенные образчики 90-х годов XX века), за что лично сам и все мы (сотрудники и авторы) заплатили высокую цену. В собственной стране, в государстве, которому так «безнадежно» были верны, — получили кукиш даже без масла. В «новой России» прием замалчивания и выдавливания использовался по отношению к нам со всем изощрением новейших пыток — политтехнологий. Меня всегда удивляло, что двадцать лет сыны отечества Отчеством были не востребованы. Что можно квалифицировать как бездарность и расточительность, безответственность и непродуктивность со стороны власти, желающей быть эти годы якобы «вне идеологий» и потому так неуклонно проигрывающей. По всем направлениям. Причем, в этот процесс «тромбирования» подлинного, «непущания» талантливых сил к преображению и развитию жизненных и профессиональных областей, оказались втянуты буквально все властные структуры, независимо даже от того, полагают себя «патриотами» или «демократами», руководят десятком или сотнями людей.
Иногда даже казалось, что в сугубой твердости Бородина есть что-то очень личностно-трудное (ведь его не раз упрекали в том, что он содействовал развалу СССР)! И все эти годы главной целью его было одно: сопротивляться всяческому сепаратизму, бороться всеми силами против угрозы распада России, всячески препятствовать «расчесыванию» исторических ран с целью постоянного поддерживания в обществе конфликтного напряжения. Об этом, в сущности, он писал в своих колонках главного редактора все эти годы, требую от всех и каждого служения идее государственности, целостности — прежде всего.
 Кстати, уже в 1987 году он предупреждал патриотов, что первейшей нашей головной болью станет Украина (он знал, что говорил — из всех, сидевших с ним в лагере, он один был русским). На него тогда махали руками, восклицали уверенно: «Не может быть!». Увы, прав оказался он. Лично он «национализм» полагал всегда качеством, свойственным небольшим народам, а не большому русскому народу (современные либерал-националисты вызывали у него устойчивое отторжение — изучить их идеи близко, «лицом к лицу», у него была возможность: он с некоторой надеждой на некоторое единомыслие (или их переубеждение?) открыл им двери журнала, но категорически и довольно быстро попросил — насколько мог вежливо — за порог).
Кстати, уже в 1987 году он предупреждал патриотов, что первейшей нашей головной болью станет Украина (он знал, что говорил — из всех, сидевших с ним в лагере, он один был русским). На него тогда махали руками, восклицали уверенно: «Не может быть!». Увы, прав оказался он. Лично он «национализм» полагал всегда качеством, свойственным небольшим народам, а не большому русскому народу (современные либерал-националисты вызывали у него устойчивое отторжение — изучить их идеи близко, «лицом к лицу», у него была возможность: он с некоторой надеждой на некоторое единомыслие (или их переубеждение?) открыл им двери журнала, но категорически и довольно быстро попросил — насколько мог вежливо — за порог).
* * *
В последнее время Леонид Иванович жил с ощущением, что его «забыли» (не читают критики, не пишут). Лично мне он давно запретил о себе писать: мол, это нехорошо, ведь мы с тобой работаем в одном журнале, — это неприлично. Правда, количество диссертаций о его творчестве неуклонно росло. Он перешел незаметно в ряды русских классиков при явном невнимании современного критического цеха к его прозе.. (а я, грешная, вообще не уверена, что наши «отцы патриотики и литературы» кроме «Третьей правды» что-то внимательно читали у Бородина, честно сказать, не уверена даже и в том, что «Час шестый», например, Василия Белова тоже ими был читан). И, тем не менее, иногда мне удавалось подумать о нем и написать. Его рассказ «Посещение» — начало начал в творчестве писателя (написан в начале 1970-х годов) и повесть «Расставание» (1981) сегодня, я полагаю, читаются с не меньшим, чем прежде, интересом. Писатель словно опередил время, выводя в своих произведениях героя, жаждущего веры и не могущего обрести ее легко, в простоте. Его взгляд на «ищущую», протестующую и оппозиционерствующую интеллигенцию, вновь возвращает нас к вечным русским вопросам о власти честной и нечестной, о выборе жизненной позиции, об обретении цельности человеческой личности. И «Посещение», и «Расставание» — это проза, раскрывающая нам идейного Леонида Бородина. Она насыщена интеллектуальными спорами, она динамична, с яркими социально-психологическими портретами героев. Бородин всегда умел «сражаться с идеями, а не с людьми». Но все идеи его героев-интеллигентов всегда сопрягаются с неким большим — с правдой русской точки зрения, с правдой России. Принадлежность к целому, принадлежность к общему — это для писателя не только область социальная. Герой «Расставания», попадая в церковь, испытывает потрясение, приобщаясь к некоему такому «общему», что гораздо значительнее и тоньше любых изысканнейших интеллигентских рефлексий (тут у Бородина — контрпозиция по отношению к тому, что высказано было в недавнем фильме Александра Архангельского «Жара»). Либерального интеллигента (нельзя не отметить упреждающего знания писателя) «принадлежность к целому» унижает: он скорее собственные слезы объяснит особенностями церковной архитектуры, он и чувствам собственным готов не поверить, коли они — вестники надличного или общего, идущего из глубины…
Как-то я его спросила (возможно, что в конце 90-х годов, когда многие уповали на провинцию), — спросила о том, что во многих его произведениях есть нравственное и идеологическое противопоставление столицы и провинции; «Вам больше мил провинциальный человек?». И он мне ответил так: «Я человек провинциальный, но я и не сторонник культа провинции как таковой. И если в каких-то текстах это есть, то Вы правильно заметили нравственный аспект этого противопоставления. Я категорически против всяких сепаратистских настроений и спекуляций вокруг темы провинциальной первозданной чистоты. Мне мил хороший человек. Просто человек столицы или столичный интеллигент более «неоднозначный», а иногда и более покалечен воздействием идей и идеек сомнительного толка. Но все же, мне интересен этот современный столичный человек, ибо он более втянут в борьбу идеологий». Я вспомнила эти его слова (они были записаны) сейчас еще и потому, что последняя его повесть, вышедшая в журнале в 2010 году) называлась «Хорошие люди». А последнюю рецензию критика, которую он читал о себе и об этой повести, написала моя ученица- молодой критик Вероника Васильева.
Россия — главная Муза писателя. Россия у него разная — не только смутная — в шатаниях и раздорах безвластья, не только лагерная и диссидентская (при «сильной власти»), но и Россия глубинная, где возможна любовь, верность, подлинность как в «Лютике — цветке желтом» и в «Повести о любви, подвигах и преступлениях старшины Нефедова», написанных писателем на исходе 1990-х годов. И уже тогда своей счастливой традиционностью, своим правильным порядком в человеческих чувствах (горьких и чистых одновременно) Леонид Бородин вновь пошел поперек «злобы века сего», поперек «правды секунды». Он говорил о нежности, верности, свежести чувств, достойных человека, когда другие жадно обгладывали «плоть действительности» и «развоплощали человека». Он писал о прошедших счастливых временах собственного отрочества и юности в благословенных местах на берегу Байкала, когда другие с азартом кинулись выискивать «нового героя» (от мафии и «низов» с бомжами и проститутками до «верхов» — с попфигурами политиков и звезд). Он всегда горько говорил о том, что не нашлось никого, кто смог бы экранизировать его маленький шедевр — повесть о Байкале и любви «Год чуда и печали»… Не сбылось.
 Стареть трудно. Последний период жизни Леонида Ивановича был довольно мучительным. Ему было трудно — и мне, например, тоже было трудно. Иногда он был искренен как на исповеди — даже как-то страшно и трепетно было его слушать. Но время для таких личных и сложных воспоминаний не пришло. И все же некий целостный жизненный круг уже виден: он успел недавно побывать в Перми и в том лагере-музее, где когда-то был узником. Он успел возвысить свой гневный голос против всех русофобов и ненавистников русской культуры, — тех мелких псевдоинтеллектуальных актуальщиков гельмановского проекта, которые загадили город Пермь. Он составил сам, своей волей, свою последнюю книгу рассказов, которые писал всю жизнь. Она и станет его литературным завещанием….Он все чаще вспоминал не о живых, а об умерших товарищах (да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя….) — вспоминал тех сидельцев по первому сроку, которые все отчетливее и очевиднее виделись ему как лучшие люди лучшей — крепкой — породы.
Стареть трудно. Последний период жизни Леонида Ивановича был довольно мучительным. Ему было трудно — и мне, например, тоже было трудно. Иногда он был искренен как на исповеди — даже как-то страшно и трепетно было его слушать. Но время для таких личных и сложных воспоминаний не пришло. И все же некий целостный жизненный круг уже виден: он успел недавно побывать в Перми и в том лагере-музее, где когда-то был узником. Он успел возвысить свой гневный голос против всех русофобов и ненавистников русской культуры, — тех мелких псевдоинтеллектуальных актуальщиков гельмановского проекта, которые загадили город Пермь. Он составил сам, своей волей, свою последнюю книгу рассказов, которые писал всю жизнь. Она и станет его литературным завещанием….Он все чаще вспоминал не о живых, а об умерших товарищах (да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя….) — вспоминал тех сидельцев по первому сроку, которые все отчетливее и очевиднее виделись ему как лучшие люди лучшей — крепкой — породы.
Бородин — одинокий писатель и довольно одинокий человек (он недавно признавался, что ему «жить стыдно» — «все мои подельники и товарищи, даже молодые, уже умерли»). Но Леонид Бородин мог себе позволить никогда не бежать за узкой «партийной правдой», мог позволить себе восхищаться «самой эстетически значимой, самой красивой формой правления» — Монархией, мог неспешно улавливать в свои творческие сети то существенное, что не проходит, а остается. «Он — человек с догматом», — такой была его высшая оценка других людей. Теперь мы так можем сказать и о нем самом.
Капитолина Кокшенева
Мы с детства в Русь вколдованы, лишь помни и носи —
Но судьбы уготованы — и нет уж той Руси.
То к лучшему, то к худшему — кому про то ясней,
По Пушкину, по Тютчеву знакомились мы с ней.
Сквозь песни молодецкие мы ищем нашу Русь,
Нам бабки досоветские вложили эту грусть.
Но тропы опечатаны — не тронь, не воскреси,
Последние внучата мы несбывшейся Руси.
Мне Русь была не словом спора,
Мне Русь была судьба и мать,
И мне ль российского простора,
И русской доли не понять.
Воспетой чуткими стихами в одно дыхание моё,
Я Русский сын , с её грехами и благодатями её.
Но нет отчаянью предела, и боль утрат не пережить,
Я ж не умею жить без дела, без веры не умею жить.
Без перегибов, перехлёстов, без верст расхлёстанных в пыли —
Я слишком русский, чтобы просто кормиться благами земли.
Знать головою неповинной, да эшафоту простучать,
Я ж не могу наполовину ни говорить, и не молчать.
Земля родная, ради Бога, храни меня теперь и встречь,
Чтоб мне по глупости, до срока, впустую не перегореть.
.
Психическая атака
Поручик выпьет перед боем
глоток вина в походной фляге.
Он через час железным строем
уйдет в психической атаке.
Поручик курит до сигнала.
На фотографии в конверте
десяток слов, чтоб та узнала,
как он любил за час до смерти.
Давно проверены мундиры:
тут заблестеть, где блеск положен.
И офицер и командиры
уже торжественней и строже.
Вопрос решен, итог не важен.
За Русь, за власть, за честь, за веру
идти им полем триста сажен,
не прикасаясь к револьверу.
Красивый жест, игра дурная…
А Русь — на Русь, и брат — на брата.
Добро и зло земля родная
ты перепутала когда-то.
Падет поручик. Алой змейкой
метнется кровь из губ горячих —
подарок русской трехлинейки —
кусок свинца ему назначен.
Что ж каждый должной смерти ищет.
И не закон мы друг для друга.
Но Русь совсем не стала чище —
судьба моя тому порукой.
И я пишу девиз на флаге,
и я иду под новым флагом.
И я в психической атаке
немало лет безумным шагом.
И я иду по вольной воле,
по той земле, где нивы хмуры.
И мне упасть на том же поле,
не дошагав до амбразуры.
И десять строчек на бумаге —
прощальных слов для самых близких…
И сколько нас в такой атаке
падут костьми в полях российских?
Леонид Бородин
.
«В СМУТНОЕ ВРЕМЯ НУЖНО ДЕЛАТЬ СТАВКУ НА ИДЕЮ»
 Учрежденная в 1998 году Александром Солженицыным премия является сегодня едва ли не единственной литературной премией в России, заслуживающей внимания. В предыдущие годы ее лауреатами становились литературовед Владимир Топоров, поэт Инна Лиснянская, прозаики Валентин Распутин, Евгений Носов и Константин Воробьев (посмертно). В марте были объявлены лауреаты 2002 года. Ими стали политолог Александр Панарин и прозаик Леонид Бородин. Бородину премия присуждена «за творчество, в котором испытания российской жизни переданы с редкой нравственной чистотой и чувством трагизма, за последовательность и мужество в поисках правды». Эти слова можно отнести не только к творчеству Леонида Бородина, но и к его личности. Поражает разнообразие его произведений. Лирическая сказка «Год чуда и печали», повесть о трагических последствиях революции и гражданской войны «Третья правда», роман о диссидентах «Расставание», повесть перестроечных лет «Женщина в море», которую критики сравнивали с лермонтовской «Таманью», историческая повесть «Царица Смуты», «Божеполье» о трагедии жизни и смерти крупного партийного работника — это далеко не полный перечень. Несмотря на то, что Леонид Иванович 11 лет провел в лагерях, лишь одна его повесть — «Правила игры» — посвящена лагерной тематике.
Учрежденная в 1998 году Александром Солженицыным премия является сегодня едва ли не единственной литературной премией в России, заслуживающей внимания. В предыдущие годы ее лауреатами становились литературовед Владимир Топоров, поэт Инна Лиснянская, прозаики Валентин Распутин, Евгений Носов и Константин Воробьев (посмертно). В марте были объявлены лауреаты 2002 года. Ими стали политолог Александр Панарин и прозаик Леонид Бородин. Бородину премия присуждена «за творчество, в котором испытания российской жизни переданы с редкой нравственной чистотой и чувством трагизма, за последовательность и мужество в поисках правды». Эти слова можно отнести не только к творчеству Леонида Бородина, но и к его личности. Поражает разнообразие его произведений. Лирическая сказка «Год чуда и печали», повесть о трагических последствиях революции и гражданской войны «Третья правда», роман о диссидентах «Расставание», повесть перестроечных лет «Женщина в море», которую критики сравнивали с лермонтовской «Таманью», историческая повесть «Царица Смуты», «Божеполье» о трагедии жизни и смерти крупного партийного работника — это далеко не полный перечень. Несмотря на то, что Леонид Иванович 11 лет провел в лагерях, лишь одна его повесть — «Правила игры» — посвящена лагерной тематике.
Он считает, что к написанному Солженицыным и Шаламовым добавить нечего. Лауреат премии Солженицына за 2002 год, главный редактор журнала «Москва», замечательный русский писатель Леонид Бородин отвечает на вопросы корреспондента «Православие.Ru».
— Леонид Иванович, прежде всего поздравляю Вас с премией.
— Спасибо. Я и раньше знал, что Александр Исаевич хорошо относится ко мне и моим произведениям, но такое признание всегда приятно. Ну и, конечно, финансовая помощь в наше время не бывает лишней.
— Когда Вы начали писать?
— В лагере. Я родился в 1938 году в Иркутске в семье учителей. Детство провел в Иркутской области. Рос советским патриотом. Именно советским, а не русским. Верил всему, чему нас учили в школе: что царская Россия была тюрьмой народов, что революция принесла им освобождение. После школы по призыву партии поступил в школу милиции. XX съезд КПСС не поколебал мою веру в коммунизм, но я понял, что советская система далека от его идеалов. Ушел из школы милиции, поступил на филологический факультет Иркутского университета. Там организовался кружок, в котором обсуждались многие социальные и политические проблемы. Я написал басню про Хрущева и был исключен из университета. Уехал строить Братскую ГЭС, потом в Норильск.
— В порядке реабилитации?
— В том числе. По возвращении поступил на историко-филологический факультет педагогического института в Улан-Удэ. Начинал на отделении русского языка и литературы, но больше интересовался историей, и вскоре перевелся на заочное историческое отделение. Несколько лет преподавал историю в сельских школах: сначала в Бурятии, потом под Ленинградом.
— И продолжали противостоять режиму?
— Везде, где я бывал, создавались различные кружки. В Норильске мы пытались критически осмыслить марксизм. В Питере в то время уже существовали нелегальные организации по 5-6 человек. Потом я вступил во Всероссийский социал-христианский союз освобождения народов (ВСХСОН), которым руководил Игорь Огурцов.
— В то время Вы уже интересовались христианством?
— Конечно. Во всех кружках были книги по русской религиозной философии, «Вехи». Доставали их разными путями. Я и в Питере оказался, потому что приехал поступать в аспирантуру на кафедру истории философии ЛГУ. Подал реферат по Бердяеву. Он был принят, и по согласованию с преподавателем я планировал писать диссертацию опять же по Бердяеву. В аспирантуру меня не приняли, поскольку кандидатский минимум по спецпредметам я сдал в Иркутском университете, а в Московском и Ленинградском университетах это не признавалось. Сдавать по новой в том году было поздно, и мы с преподавателем договорились, что я буду писать диссертацию, а когда напишу, как-нибудь решим эту проблему. Это было в 1964 году. Написать диссертацию я так и не успел. В 1967 году меня арестовали.
— За то, что Вы изучали религиозную философию?
— Нет, арестовали нас в общем-то за дело. ВСХСОН был военизированной организацией, ориентированной на вооруженный захват власти. Игорь Огурцов просчитал, что социализм не может улучшаться, не подрывая страну. Рано или поздно он должен рухнуть и развалить государство. По программе, составленной и написанной Огурцовым, надо было подготовить армию, которая в момент кризиса вооруженным путем захватит власть и не только предотвратит развал государства, но также покончит с коммунизмом и создаст переходный тип государства с православной ориентацией. В программе это описывалось очень подробно. Много там было наивного, но до трех основных лозунгов — христианизации политики, христианизации экономики и христианизации культуры — до сих пор не доросла ни одна из существующих в России партий. Речь шла не о создании теократического государства, а о духовной ориентации.
— А среди членов организации были воцерковленные люди?
— Были, но немного. У каждого свой путь. Поскольку я готовился к защите диссертации по истории философии, прочитал очень много философской литературы. Впервые прочитав Евангелие, увидел несоизмеримость величин: как ни велик Гегель, которым я очень увлекался, его труды — лишь моменты частного знания, во многом спорные, чаще отталкивающиеся от христианства, чем идущие к нему. В то время я предпочел христианство чисто рационально, понимая его как философию сохранения человеческого рода. Конечно, тяга к храму была и тогда. Несмотря на то, что жил довольно далеко от Питера, старался каждую неделю приезжать на службу в Никольский собор. Мне там очень нравилось, но это было скорее душевно-эстетическое переживание. Я в то время даже крещен не был. Крестился только в 1974 году, через год после освобождения.
— Как раскрыли вашу организацию?
— Как обычно. ВСХСОН был рассчитан не на пропаганду, а на рост. Привели человека со стороны, он испугался, написал донос, нас всех арестовали. Я получил 6 лет. Сначала отбывал наказание в Мордовии, потом был переведен во Владимирскую тюрьму.
— Были ли в лагере люди, повлиявшие на Ваше мировоззрение?
— Нет, к тому времени я уже имел достаточно твердые убеждения. Убежден, что идеологически ВСХСОН был на несколько порядков выше других нелегальных организаций. Но было много людей, повлиявших на мое отношение к жизни. Я мог не разделять их убеждений, но меня восхищала твердость, с которой они готовы были эти убеждения отстаивать. У нас бывали жаркие споры, но мы не позволяли себе оскорблять друг друга. Вообще первый срок в лагере я считаю своим вторым университетом. Кого только я не повcтречал среди заключенных: бандеровцев, бериевских генералов, осужденных одновременно с ним, полицаев, различных националистов. Не все встречи были приятны, но с познавательной точки зрения это было очень интересно.
— Во время отбывания первого срока Вы начали писать?
— Я немного пописывал до ареста, с десяток рассказов были опубликованы в областной газете «Лужская правда», но первые известные вещи — «Повесть странного времени», рассказы «Встреча», «Вариант», «Перед судом» — написаны в заключении.
— Видимо, тогда Вы впервые поняли, что Вы — писатель?
— Я и сейчас этого не понимаю. Пишу, потому что есть потребность, но не уверен, что это хорошо. У меня было несколько друзей, которым я показывал свои вещи. Вскоре после освобождения я познакомился с Игорем Ростиславовичем Шафаревичем. До второго ареста он был первым читателем всех моих произведений.
— Второй раз Вас посадили?..
— Через 9 лет, в 1982 году. Это были очень непростые годы. 16 раз менял место жительства. В 1974 году я женился во второй раз. (К сожалению, первая моя семья распалась еще до ареста). В 1976 году у нас родилась дочь. Надо было кормить семью, а устроиться на работу с моей биографией было очень тяжело. Поработал составителем поездов в Очаково,потом мы переехали в Петушки. Хотел там устроиться смотрщиком вагонов — не приняли. Не взяли меня и пожарником на спичечную фабрику в Балабаново, хотя половина работников фабрики имела судимость. Жили, самозащищаясь. У известного автора песен Петра Старчика дочь была чуть старше моей. По наследству от нее нам передалась кроватка. Потом был организован фонд Солженицына. Очень большую материальную поддержку мне и моим единомышленникам оказывал Илья Глазунов. В 1976 году меня вызывали в КГБ, настойчиво уговаривали уехать. Честно скажу, мы с женой заколебались. Но через пару недель нашлась работа, и вопрос был снят с повестки дня.
— За что Вас посадили второй раз?
— Формально за агитацию и пропаганду, а фактически за публикацию своих произведений за границей. Все эти годы я продолжал писать. Работа не приносила мне никакого морального удовлетворения, и писательство было формой отдыха. Писал и в зимовье, когда работал в тайге, и в кочегарке. В те годы были написаны «Третья правда», «Расставание». Заново написал отобранный во Владимирской тюрьме «Год чуда и печали». Эти вещи издавал «Посев». Кроме того руководство «Посева» продавало переводы моих произведений, которые вышли во Франции, Англии, ФРГ, Португалии.
— Каков был приговор суда?
— Десять лет лагерей и пять — ссылки. Даже если бы я досидел десятку до конца, в ссылке наверняка бы умер. Политических загоняли в такие страшные места… В 1985 году я сидел в одной камере с замечательным украинским поэтом Василем Стусом. Вскоре он был переведен в карцер, где и скончался. Обстоятельства его смерти до сих пор неизвестны. Но я точно знаю, что здоровье Василя было подорвано именно в ссылке после первого срока. Так что я был обречен, но в 1987 году Горбачев объявил амнистию.
— Освобождение было для Вас неожиданностью?
— Нет. Слухи ходили давно. Потом меня перевели в Лефортово, где я просидел около двух месяцев. Уже тогда было ясно, что политических освобождают.
— Наверное, Вы были полны надежд?
— Нет, я сразу узнал смуту. Ко мне приходили разные люди, предлагали возглавить политические партии, баллотироваться в депутаты, но я, понимая, что наступило очередное смутное время, отклонил все предложения. Хотя в то время конъюнктура была такова, что я наверняка бы прошел в депутаты.
— В начале перестройки многие неглупые люди надеялись на лучшее. Видимо, Вы оказались дальновидней благодаря тому, что Вы историк, хорошо знавший Смутное время?
— Возможно. Хотя я над этим не задумывался. Просто понимал, что наступила смута. В 1990 году главный редактор журнала «Москва» Владимир Николаевич Крупин пригласил меня возглавить отдел прозы. Через два года я сменил его на посту главного редактора. Политику журнала мы определили в соответствии с политической ситуацией. В смутное время нужно делать ставку не на партию и не на личность, а только на идею, идеей же должна стать государственность, по мере возможности православная. Мы понимали всю сложность задачи. Под угрозой стояла сама российская государственность, большинство граждан России были атеистами. Но другой созидательной идеи быть не могло.
— Несмотря на диссидентское прошлое, Вы не скрывали, что чувствуете духовную близость прежде всего с писателями-деревенщиками, а не с правозащитниками.
— В советские годы я был лично знаком только со своим земляком Валентином Григорьевичем Распутиным. Деревенскую прозу я предпочитал всей современной русской литературе как наиболее традиционную. Больше всего любил и люблю «После бури» и «Комиссию» Сергея Залыгина. Я консерватор, а в других произведениях в большей или меньшей степени были попытки модернизации. Хотя я всё читал, многие вещи («Сандро из Чегема» Фазиля Искандера, романы Юрия Домбровского) с большим интересом. Духовно мне близки люди, которые любят Россию. С теми же, кто считает ее историческим недоразумением, у меня не может быть ничего общего. Многие из этих людей в лагерях вели себя достойно, но для будущего России важны не человеческие страдания, а любовь к Родине. Я могу по многим вопросам не соглашаться с Куняевым или Прохановым, но любовь к России нас объединяет.
— В начале девяностых многие призывали объединяться всех патриотов: красных и белых, православных и коммунистов. Не повредила ли такая неоднородность патриотическому движению?
— Сложный вопрос. В семидесятые годы, когда мы поняли, что подпольщина бесполезна, перед нами встала задача сформировать сознание интеллигенции, в котором национальное будет органично сочетаться с христианским. Ведь именно тогда в моду вошло язычество, появилась Велесова книга, рассуждения о том, что мы арийцы, а христианство нас испортило. И сегодня многие тайно исповедуют эту веру. Патриотическое движение в основном было неправославным, и в этом его трагедия. Достоевский говорил, что социализм не прав, потому что есть Бог.
— То есть возрождение Православия является непременным условием возрождения России?
— Возрождение возможно в разных вариантах. Но без Православия это будет уже не Россия.
— А возможно ли, на Ваш взгляд, восстановление монархии?
— Если и возможно, то не скоро.
— Незадолго до своей кончины Вадим Валерианович Кожинов говорил о том, что прежде, чем говорить о восстановлении монархии, нужно думать о восстановлении религиозного сознания народа.
— Полностью согласен. Монархия — не форма правления, а форма бытия народа, отражающая особенности его сознания. В нерелигиозном обществе возможна только пародия на монархию. Фактически будет не царь, а президент без права переизбрания.
— В вашем журнале есть постоянная рубрика «Домашняя Церковь». Эта рубрика ставит задачи религиозного возрождения?
— Она с этой целью создавалась. Ее открыл Крупин. В настоящее время за нее отвечает Сергей Иванович Носенко — человек глубоко верующий, но, на мой взгляд, слишком горячий. Все время рвется полемизировать: то с католиками, то с протестантами, то со старообрядцами. Я ему советую: поменьше борьбы, побольше позитива. Но вообще стараюсь не вмешиваться в его работу. Он все же гораздо более воцерковленный человек, чем я.
— Судя по Вашим произведениям, Ваш путь к Богу продолжается до сих пор?
— Я принадлежу к той части моего поколения, которая до конца воцерковиться не сможет. Хотя уже в семидесятые годы, когда началась активизация православного сознания, я в статьях многих неофитов безошибочно распознавал ересь. То есть православную логику, логику Благой Вести я освоил. Но по-настоящему воцерковленным человеком так и не стал. Хожу в церковь, исповедуюсь, причащаюсь, но нерегулярно.
— То есть у Вас интеллектуальное преобладает над сердечным?
— Надеюсь все-таки, что не над сердечным. Скорее мне не хватает взаимодействия души и ума. Но я понимаю, что очень опасно подменять веру идеологией. Проблема миссионерства сегодня актуальна как никогда.
— Какие вещи никогда не могут появиться на страницах «Москвы»?
— Политическая грубость. Как бы я ни относился к Гайдару или Чубайсу, я никогда не позволю, чтобы наши авторы отпускали шуточки по поводу их внешности. Похабщина типа произведений Виктора Ерофеева, «Палисандрии» Саши Соколова. Хотя бывают провалы. Во втором номере напечатали одну вещь, не заметив, что там есть пошлость. Можем прозевать бездарное стихотворение. Этого, конечно, быть не должно.
— Александр Сергеевич Панарин, с которым Вы разделили премию, является постоянным автором вашего журнала.
— Когда-то он печатался в «Новом мире», но известность пришла к нему после публикаций в «Москве». Он не скрывает, что прошел через либеральные соблазны. Сегодня он является одним из самых ярких политологов и, безусловно, заслуживает премии.
— А как Вы относитесь к лауреатам предыдущих лет?
— Я уже говорил, что с Валентином Григорьевичем Распутиным мы дружим более двадцати лет. Считаю его выдающимся писателем и гражданином. Евгений Иванович Носов последние годы печатается только в нашем журнале. Константина Воробьева я лично не знал, но прозу его очень ценю. Инна Лиснянская, безусловно, талантливая поэтесса. Возможно, я бы предпочел другого поэта, но уважаю выбор Александра Исаевича. С трудами академика Топорова я незнаком, но опять же доверяю Солженицыну.
— Нобелевские лауреаты имеют право выдвигать свои кандидатуры на Нобелевскую премию. Не могли бы Вы предложить будущих кандидатов на солженицынскую премию?
— Сразу несколько имен приходит на ум. Чтобы никого не обидеть, не назову. Единственный, о ком скажу, — ныне покойный Дмитрий Балашов. Если бы премии присуждал я, самую первую вручил бы ему. Я знание русской истории углублял через его романы. Мы не были близко знакомы, встречались только на совместных вечерах. Мне всегда было неловко сидеть рядом с Дмитрием Михайловичем — настолько значительным представлялось мне сделанное им.
— Воробьев удостоен премии посмертно.
— Ну что ж, если присудят посмертно Балашову, буду рад.
— Художественный уровень его романов высок?
— Мне трудно быть объективным. Я просто их читаю.
— А исторически они достоверны?
— В периодах, которые мне хорошо известны, я искажений не находил. В других случаях я просто верил ему.
— А как Вы оцениваете «Раскол» Владимира Личутина?
— «Раскол» — демонстрация былого богатства русского языка. Без словаря это читать невозможно. У Балашова тоже богатый язык, но он пропорционален времени. В конце каждого романа есть маленький словарик неизвестных слов. Но эти слова в его романах вставлены настолько умело, что и без словарика угадываешь их значение. Тем не менее я считаю «Раскол» литературным событием.
— А с исторической концепцией Личутина Вы согласны?
— Трудно ответить на этот вопрос. Например, славянофилы считали, что трагедия России началась с петровских реформ. Кто-то отсчитывает трагедию от раскола. Есть и третья точка отсчета — спор между иосифлянами и нестяжателями. Но наверняка кто-то копнет еще глубже. Где-то же надо остановиться! Можно найти аргументы и против старообрядцев, и против Никона. И так ясно, что революция — итог кризиса веры. Смута началась в конце девятнадцатого века и сегодня она еще не закончилась. Лет через двести историки будут рассматривать эти годы как единый период. (Точно так же сегодня захват власти рабами в Древнем Египте, закончившийся их пятисотлетним правлением, сегодня рассматривается как один период мятежа). Я не против того, чтобы специалисты исследовали причины трагедии. Но важнее зафиксировать: кризис веры привел к тому, что русский человек предпринял попытку построения Царства Божиего на земле.
— Вы говорили о «былом» богатстве языка. Сегодня лучшие гуманитарии говорят не о богатстве, а о вырождении, понижении языка.
— Понижение языка — опошление общества. После второго срока я поехал отдыхать в Крым и взял с собой «Палисандрию» Саши Соколова. Я прятал ее под кровать, потому что если бы мой сосед из любопытства заглянул в эту книгу, он принял бы меня за извращенца.
— А ведь начинал этот автор со «Школы для дураков».
— Я слышал, что это хорошая книга, но после «Палисандрии» не могу читать Сашу Соколова. Точно так же в брежневское время прочитал «Это я — Эдичка» и «Зияющие высоты» и с той поры меня не интересуют ни Лимонов, ни Зиновьев. Я допускаю, что они талантливы, но не могу преодолеть брезгливость. В лагере мы не только хранили чистоту языка, но, например, никогда не играли в карты. Это было принципиальное неслияние с уголовным миром. Сегодня слово «беспредел» многим кажется безобидным (даже президент его употребляет), а ведь это чисто уголовный термин, означающий отсутствие порядка в камере.
— Почему же писатели позволяют себе опускаться не только до жаргона, но и до мата?
— Либо человек понимает, что он неталантлив и может выразить себя только через эпатаж, либо он талантлив, но конъюнктурен. Но не все так трагично. В нашем журнале печатается немало молодых авторов, которые выдерживают уровень языка. Хотя такого богатого языка, как в деревенской прозе, нет. Это невосполнимая утрата.
— За исключением политолога Панарина, вы с Распутиным — самые молодые из лауреатов солженицынской премии.
— Насколько я понимаю, эта премия присуждается по совокупности заслуг. Распутин не только писатель. Сколько он сделал и для Байкала, и для Церкви! Меня его книга о Байкале восхищает. Публицистика, а какая глубина, какой язык! Среди молодых я пока не вижу достойных лауреатов. Но интересные авторы есть, и я уверен, что через какое-то время появится значительное литературное произведение.
— Еще раз хочу привести мысль покойного Вадима Кожинова. Он считал, что подлинное слияние искусства и христианства возможно только на высшем уровне зрелости художника.
— У меня по этому вопросу более радикальная позиция. Попытка осмыслить мир через художественное творчество очень рискованна. Невозможно требовать от литературы и искусства, чтобы они были православными. Тогда они и не нужны. Есть главная Книга, в которой все сказано. Остальное — попытки воспроизвести Тайну Творения через себя. По большому счету они тщетны, но в первоначальной основе могут нести здоровое начало. Не просто как произведения искусства, а как способ расширения души, стремящейся к Богу. В этом смысле можно рассматривать творчество положительно.
— Что Вы ждете от современной молодежи?
— Я надеюсь только на восстановление русского государственного сознания. Если оно произойдет, то скажется положительно на всем: литературе, музыке, культуре речи, экономике, борьбе с коррупцией, преступностью, проституцией, наркоманией…
Редакция «Православие.Ru» особенно поздравляет Леонида Ивановича Бородина с вручением ему высокой награды Русской Православной Церкви — ордена Преподобного Сергия Радонежского.
.
http://www.pravoslavie.ru/guest/borodin.htm
Find more like this: НОВОСТИ






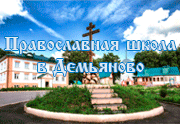


Уведомление: Что такое «Родноверие» | Церковь Успения Богородицы
Уведомление: Большой террор | Церковь Успения Богородицы
Уведомление: Об истории ГУЛАГа теперь можно будет узнать в обновлённом музее | Церковь Успения Богородицы
Уведомление: 23 ноября 1917 года был издан декрет ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов” | Церковь Успения Богородицы