Верховный приговор Господа нашего поставил молитву мытаря выше, чем самодовольную молитву фарисея. Служба сегодняшнего дня подтверждает этот приговор, и наши чувства привычно к нему присоединяются...
Но чтобы согласие нашего сердца с приговором Господа нашего не было слишком привычным и слишком легким, чтобы мы поняли глубину и силу приговора Господа, нам будет нелишне подумать обо всем, что мог бы сказать фарисей в свою пользу.

Смотрите также:
«Всё тонет в фарисействе»
Мы привыкли употреблять слово «фарисей» как синоним слова «лицемер». И действительно, Господь наш называл фарисеев лицемерами или, может быть, лицедеями, если иметь в виду значение греческого слова, употребленного в Евангелии. Но Господь наш имел право и власть так назвать фарисеев. Мы же должны задуматься, в каком смысле фарисей — это лицемер? В жизни мы можем называть лицемером человека, который попросту притворяется перед людьми: на глазах у людей принимает вид добродетельного и порядочного человека, а едва люди отвернутся, ведет себя совершенно противоположным образом.
О фарисее из выслушанной нами сегодня притчи мы такого не знаем. Он говорит перед Богом и перед самим собой, а не перед людьми, и у нас нет оснований полагать, что он не исполнял в повседневной жизни того, о чем говорил. Он действительно постился дважды в неделю, он действительно, надо полагать, не позволял себе ни малейшего упущения, отсчитывал десятую долю от каждого своего дохода и приобретения в жертву храму. Это не так мало. И такие, по-человечески говоря, порядочные люди, которым не нужно было чужого, которые не согрешили воровством или блудом, — такие люди немало терпели в повседневной жизни от людей, подобных мытарю.
Мытарь — это сборщик налогов, очень часто позволявший себе беззаконие, бравший много сверх того, что ему полагалось (собственно, на этом и держалось налоговое дело в те времена), да еще находившийся на службе у оккупационных властей — у язычников, иноземцев. Земная власть — власть римского наместника — давала преимущество мытарю, и в повседневной жизни, надо полагать, фарисей и его друзья, такие же люди, как он, терпели от людей, подобных мытарю.
И вот для фарисея приходит час реванша. Он — в храме; он видит у входа смущенную и раздавленную сознанием своей вины фигуру мытаря, одного из тех, от кого он терпит в повседневной жизни. Но хотя бы здесь, в храме, святыня, Закон, Божье благоволение — это-то принадлежит ему, фарисею; это его, страшно сказать, карта, которую он может использовать в игре против мытаря. Там, на улице, мытарь имеет над ним власть, но здесь, в храме, все принадлежит фарисею. Ему принадлежит самый Закон, Закон и он — как будто одно. В том-то и ужас проблемы фарисея, что фарисеи, как правило, не были вульгарными лицемерами, то есть обманщиками, ведущими себя противно своим словам, едва от них отвернутся. Это были серьезные люди. И как будто бы можно только позавидовать обществу, уважавшему не богатство, не земную власть, не роскошь, не любострастие и моду, но ученость и благочестие, стремление в точности осознать Закон и в точности его исполнить. Конечно, мы можем сказать (и это будет правда), что отношение фарисеев к исполнению Закона было чересчур мелочным. Но так ли уж легко провести границу между необходимой точностью в исполнении Божьего Закона и недолжной мелочностью? В конце концов, по отношению к величию Бога, все, что можем сделать мы, незначительно. Но разве мы не призваны и в малом исполнить наш долг?
В чем же вина фарисея? Прежде всего в том, что он судит самого себя и судит мытаря — вместо Бога. Он как будто посягает на престол, уготованный для последнего Суда Божьего, он уже предвосхищает этот Суд. Но, братья и сестры, так ли уж легко нам удержаться от того, чтобы предвосхищать Суд Божий? и говорить от имени Бога, вместо Бога?
Далее. Фарисей заявляет о довольстве собой. Как ему кажется, ему остается только возблагодарить Бога за то, что Бог сделал его праведным исполнителем Закона, а не грешником. Но здесь существо дела опять-таки не в том, что фарисей дерзает так о себе говорить. Ну, хорошо, мы, наученные евангельской притчей, не будем так говорить — мы будем хитрее фарисея. Но ведь духовные учителя вот такое смирение на словах, которому не научился фарисей, воздержание от слов — только слов, но не чувствований, — называли смиренноглаголанием и противопоставляли истинному смирению.

Смотрите также:
Дела субботние
Если мы из этой притчи научимся всего-навсего воздержанию от каких-то слов, то фарисей, пожалуй, будет отличаться от нас всего-навсего тем, что он прямодушнее, наивнее, откровеннее, искреннее, если хотите. Он вправду говорит то, что думает и чувствует. Чувства же его связаны с тем, что норма Закона, которую он видит перед собой и вполне справедливо почитает, — норма эта не живая. Из чего это видно? Из того, что ему представляется, будто он до этой нормы дорос, что он ей соответствует, что он исполнил Закон.
Это значит, что его закон не живой.
Почему? Потому что, если бы его закон был живым, если бы норма, в соответствии с которой он живет, была живая, она бы росла вместе с ним — так, как это показано в Нагорной проповеди.
Да, сказано — «не прелюбы сотвори», и фарисей, очевидно, исполнил это — он не совершает физического блуда, коль скоро дерзает благодарить Бога, что он не таков, как блудники. Но Бог требует полной чистоты сердца, чистоты тех глубин сердца, которых человеческий взгляд не всегда видит. В нашем сердце есть такие глубины (об этом задолго до психологии нашего столетия говорил блаженный Августин), которые — бездна, вообще не проницаемая для нашего взгляда.
Фарисеи. Картина Джеймса Тиссо (фрагмент)
Мы знаем, что собратья этого фарисея жизнь Самого Живого Бога ставили как бы ниже Закона, потому что приписывали Самому Богу занятия Законом в Его блаженной вечности. Такое мнение было у фарисейских учителей того времени и последующего. Нам легко, конечно, посмеяться над образом Бога, который в Своей блаженной вечности занят тем, что размышляет над Своим собственным Законом — как вечный, небесный, бессмертный, всемогущий и пренепорочный фарисей. Нам легко над этим посмеяться, но такой ход мысли, когда Закон поставлен наравне с живым Богом или превыше Его, — это очень страшный ход мысли, совсем не простой, по существу.
И далее. Фарисей не довольствуется тем, что благодарит Бога за свою верность Закону, но желает видеть грешников как фон, оттеняющий его, фарисея, праведность.
Надо сказать, что само слово «фарисей» происходит от древнееврейского глагола, означающего «отделять». Фарисей — это тот, кто отделил себя по своему собственному сознанию от всякой нечистоты, но также и от прочих людей, которые нечистые, которые не таковы, как он. Поскольку он — исполнитель Закона, почитаемый и признаваемый в качестве такового обществом, его обязанность — свидетельствовать о Законе и учить Закону грешников. Но он этим отделяет себя не только от греха, но и от грешника, и таким образом сам кладет перед собой непреодолимое препятствие в исполнении своего долга учить Закону, передавать другим то благо, которое, как он убежден, дано ему самому.
Ибо грешный человек и все мы, в силу нашей греховности, привыкли очень живо чувствовать чужое самоутверждение. И когда нам говорят правду, но таким образом, что эта правда должна быть ударом, нас сражающим и обеспечивающим нам поражение в некоей игре, в некоем состязании с тем, кто с нами разговаривает и нас поучает, мы не принимаем поучения. И фарисей, проводя черту разделения уже не между собой и грехом, но между собой и грешниками, отделяя себя от грешников, сам делает все возможное для того, чтобы не быть учителем и никого ничему хорошему не научить.
Мы знаем, что безбожная мысль выступала со многими укоризнами в отношении типа благочестивого, религиозного человека, исполнителя религиозного Закона. Эти обвинения, когда они исходят от безбожников, от злой страсти, направленной против веры, имеют в себе, конечно, много клеветнического и несправедливого.
Но постольку, поскольку верны слова псалма пророка Давида «всякий человек есть ложь», поскольку мы — недостойные свидетели истинной веры в этом мире и не изъяты из этого суждения, постольку в обвинениях, во множестве прокурорских речей вновь и вновь произносимых безбожниками против благочестивцев, есть некая доля истины. И христианство, Христово учение, Евангельское учение — это единственное религиозное учение, учение благочестия, которое способно увидеть, и принять, и предложить нам в назидание в этой притче ту долю истины, которая придает какую-то силу немощной хуле нечестия против благочестия. Только одно Христово учение способно научить нас этому из того, как нас, людей, которые через несколько недель должны будут исполнять обязанности поста, нас, приходящих в воскресный день в храм, как нас может увидеть, ну, скажем, мытарь.

Смотрите также:
Мытари, саддукеи и фарисеи — кто эти люди?
Да будем мы всегда жить с живой мерой, которая есть Сам Христос. Когда святые, великие святые и великие подвижники, укоряли себя, называя себя «великими грешниками», это не было смиренноглаголанием. Они говорили так не потому, что у христиан принято называть себя «великими грешниками», а потому, что они действительно в своем живом сердце, в своей живой совести, возраставшей вместе с ростом их подвигов, видели себя великими грешниками. Потому что перед ними была не мертвая мерка, до которой можно дорасти, но Божие Небо над головой. И они, живые, в это Небо росли, и Небо всегда оставалось бесконечно высоким над их головой.
Приверженцы других религий могут все исполнить и сказать: «Ну, вот, мы все исполнили!». Не будем обманывать себя, не будем смеяться над приверженцами этих религий. В любой религии все исполнить очень трудно, это дело серьезное. Но христианин никогда, ни на секунду не может почувствовать и сказать: «Вот, я все исполнил», — потому что его мера — живая, Сам Господь наш.
Сергей Сергеевич АВЕРИНЦЕВ (1937 — 2004) — филолог, культуролог, библеист, переводчик, поэт, академик РАН
Find more like this: АНАЛИТИКА








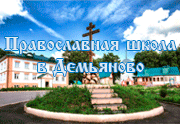


Уведомление: Неделя о Страшном суде | Церковь Успения Богородицы