О «белой» прозе Николая Раевского.
«Вероятно, на вокзале уже узнали о приходе “Тигра”. Из всех поездов повылезали больные. Идут через силу. Красные завалившиеся глаза, почерневшие губы. <…> Медленно бредут вдоль составов. Цепляются за вагоны. Падают. Отдышавшись, кое-как поднимаются. <…> Растрепанная бледная дама ведет под руку полуодетого капитана. Он качается. То и дело валится на землю. Дама поднимает, уговаривает, плачет.
— Ну, родной мой… дорогой… близко ведь… совсем близко… обопрись о меня.
Через несколько шагов капитан опять валится. Глаза закрыты. Дама громко рыдает.
Дальше… дальше… всё равно не можем помочь…
<…> Перекошенные лица, проклятия, крики. Погрузка кончена.
— Пустите!
— Ради всех святых пустите… муж у меня.
— Зачем вы нас бросаете… ради Бога… спасите!
<…> Рядом со мной маленький кадет в черном пальто. Уперся головой в поручни. Плачет. <…> Опять крики внизу. Женщина бьется головой о бетон. “Тигр” дает длинный гудок. Пах… пах… Блестки в задних рядах. В двух местах толпа расступается, давая возможность упасть трупам»[1].
И. Владимиров. Эвакуация из Новороссийска в 1920 году
Приведенный фрагмент, описывающий отступление белой армии от Новороссийска в марте 1920-го, — из произведения Николая Алексеевича Раевского «Добровольцы. Повесть крымских дней». 11 декабря 2013 года исполнилось 25 лет со дня кончины этого замечательного русского писателя. В 1960–1980-х вся читающая публика — от Москвы до самых до окраин — знала его как глубокого и авторитетного исследователя биографии Пушкина. Его работы «Если заговорят портреты», «Портреты заговорили», «Друг Пушкина Павел Воинович Нащокин», «Пушкин и Долли Фикельмон» имели большой и заслуженный успех. Книги Раевского, соединявшие подлинную научность и превосходное знание эпохи с увлекательностью повествования, читались как детективы. Купить их, как, впрочем, любую хорошую литературу в те годы, было невероятно трудно, несмотря на то что переиздавались они многократно. Но, как оказалось, существует еще один интереснейший пласт его творчества, который от современников был скрыт. Однако обо всем по порядку.
Николай Раевский родился в 1894 году в небогатой дворянской семье. С 1913 года изучал биологию в Петербургском университете. В 1915-м добровольцем ушел на фронт, окончив ускоренный курс артиллерийского училища. Боевое крещение получил в Брусиловском наступлении. К весне 1917-го был награжден тремя орденами. Как и другие офицеры-фронтовики, мучительно переживал начавшийся развал армии и страны.
«А сейчас… жуткий липкий позор. Каждый день по грязному, избитому бесчисленными обозами шоссе мимо домика, в котором мы живем, десятками, сотнями тянутся в тыл беспогонные, нестриженые злобные фигуры. Бросают опаршивевших, дохнущих от голода лошадей и бегут, бегут, бегут. <…> И глухая, темная злоба закипает в груди — и к тем, которые развратили и предали, и к тем, которые развратились и предали. <…> Всё кончено, все надежды разбиты. Темная ночь впереди. И мы, молодые здоровые люди, чувствовали себя живыми покойниками. <…> Стыдно было чувствовать себя русским. Стыдно было сознавать, что в твоих жилах течет та же кровь и ты говоришь на том же языке, что и те, которые братались с врагом, бросили фронт и разбежались по домам, грабя и разрушая всё на своем пути» (20–22). (Из мемуарной повести «Тысяча девятьсот восемнадцатый год»).
Но поручик Раевский не намеревался в тяжелейшие для Родины дни довольствоваться ролью наблюдателя. С 1918 года до завершения Гражданской войны на юге России он сражался в рядах белых. Потом — Галлиполи, Болгария, Чехословакия, где Раевский блестяще окончил естественный факультет Карлова университета, получил докторскую степень и, несмотря на открывшиеся перспективы научной деятельности, оставил биологию, потому что «заболел» Пушкиным. После прихода немцев его как бывшего русского офицера арестовало гестапо, но через два с половиной месяца выпустило под подписку о невыезде.
 Встречая в Праге 1944 год, Раевский записал в дневнике: «Хотел бы конца войны, как и все, но боюсь, боюсь большевизма — не за собственную шкуру только, за немногих дорогих мне людей, за всё, что есть хорошего в европейской культуре, за право жить не по указке духовного хама… Для себя же лично — пережить две недели после конца войны. Кто-то сказал, что это будут самые страшные две недели»[2].
Встречая в Праге 1944 год, Раевский записал в дневнике: «Хотел бы конца войны, как и все, но боюсь, боюсь большевизма — не за собственную шкуру только, за немногих дорогих мне людей, за всё, что есть хорошего в европейской культуре, за право жить не по указке духовного хама… Для себя же лично — пережить две недели после конца войны. Кто-то сказал, что это будут самые страшные две недели»[2].
Предчувствие не обмануло: 13 мая 1945-го за ним пришли. Приговор: пять лет лагерей и три года поражения в правах «за связь с мировой буржуазией». Столь маленький срок, называвшийся тогда «полкатушки», был милостью и подарком: председатель трибунала оказался страстным поклонником Пушкина и, проговорив с Раевским о поэте более часа, дал подсудимому «минималку».
Просто отпустить человека, обвинить которого не в чем, — такого даже лучшие из тогдашних судей позволить себе не могли. Оно и понятно, судья ведь тоже был не о двух головах… По счастливой случайности Раевскому удалось переправить значительную часть собранных им материалов о Пушкине в Институт русской литературы (Пушкинский дом). Заключение специалистов: «…материалы имеют огромное научное и общенациональное значение». Но вновь прикоснуться к этим листкам он смог лишь много лет спустя. До 1960 года Раевский жил в Минусинске: после лагеря отбывал там ссылку, затем на несколько лет задержался добровольно, чтобы привести в порядок богатейшие ботанические и зоологические коллекции разгромленного в 1937 году музея им. Н. М. Мартьянова. Завершив этот труд, перебрался в Алма-Ату. Зная восемь иностранных языков, работал переводчиком в Республиканском институте клинической и экспериментальной хирургии. Первая книга его пушкинианы вышла в 1965 году, когда автору было около семидесяти. Как справедливо заметил когда-то Корней Чуковский, в России надо жить долго… Скончался Николай Алексеевич в 1988 году в возрасте 94 лет.
В 1990–2000-е годы были найдены и впервые опубликованы три произведения Раевского о Гражданской войне: уже названные «Добровольцы» и «Тысяча девятьсот восемнадцатый год», а также «Дневник галлиполийца». Поскольку вернуться к повести «Тысяча девятьсот восемнадцатый год» повода больше не будет, скажем о ней несколько слов. Первые главы — яркая зарисовка умонастроений предвоенного студенчества и патриотического порыва русской молодежи после начала войны. В некоторые военные училища, например, в Михайловское артиллерийское, которое окончил Раевский, имели шансы попасть в основном только золотые медалисты. Кроме того, это произведение — своеобразный реальный комментарий к «Белой гвардии» Михаила Булгакова — Раевскому тоже довелось поучаствовать в событиях на Украине времен гетмана Скоропадского.
Все три произведения по-своему интересны, но самое яркое — «Добровольцы», мемуарная повесть, где под слегка измененными фамилиями изображены реально существовавшие люди: и столь известные, как последний командир Дроздовской дивизии генерал А. В. Туркул (в повести — Турков), и простые сослуживцы повествователя, офицеры и солдаты. Время действия — февраль–ноябрь 1920 года с ретроспекциями в прошлое.
Раевский закончил «Добровольцев» в 1931-м и отправил на суд нескольким известным писателям. Откликнулся Владимир Набоков, к тому времени уже имевший статус мэтра. Обычно весьма скупой на похвалы, он писал: «Многоуважаемый Николай Алексеевич, Ваши очерки прямо великолепны, я прочел — и перечел их — с огромным удовольствием. Мне нравится Ваш чистый и правильный слог, тонкая Ваша наблюдательность, удивительное чувство природы. <…> Есть одна мелочь, которую нужно исправить, когда будете печатать, а именно: “трупы дам, изрубленных конницей Буденного…” Это неудачная комбинация слов. Вообще говоря, трудно к чему придраться, — и напротив, есть тьма вещей, удивительно хороших <…>. Из этих очерков должна получиться прекрасная книга…»[3].
Книга и вправду получилась прекрасной, несмотря на то, что повествует о страшных событиях. На ее страницах — война и кровь, смерть как самое заурядное явление, картины запредельной жестокости, немыслимой несколькими годами ранее. И — сохраненная несмотря ни на что доброта, взаимовыручка, ликующее молодое жизнелюбие, умение радоваться и шутить, замечать красоту окружающего мира. Всё это не декларируется, а прорастает из самой художественной ткани произведения. Пафосность Раевскому вообще чужда, и это особенно убеждает в достоверности происходящего. «Добровольцы» — удивительно человечное повествование о самой, быть может, бесчеловечной войне из тех, которые довелось пережить нашему многострадальному Отечеству. Притом что действительность не обнадеживает буквально с первых строк.
«Тифозных в тыл не отправляли. Жалко было. Лазареты в станицах — почти верная смерть. Еще страшнее, если оставят где-нибудь на вокзале. Там живые вперемежку с трупами. Некому и воды принести.
Заболевали один за другим. Об одном просили командира батареи — только не в госпиталь. Так и лежали в хатах на берегу замерзшего Дона. Правая сторона красная, левая — наша. Как бой посильнее, тифозных на подводы и в степь. Вечером — домой.
Когда началось отступление, тоже всех везли с собой. Были эти кубанские дни светлые и больные. С утра до вечера солнце и тишина, на ветках барашки, и всюду тиф. <…> Ночевали по хатам иногородних. <…> Был стонущий бред, черные губы, провалившиеся глаза. Колотили по затылкам тифозные молотки. Ночью большевики лезли отовсюду. Из печей, из окон, из-под кроватей. Пытали, выводили в расход. Медленно вырезали погоны…» (223). Вот такая повседневная реальность — с ежедневными боями и тифом. Погоны вырезали, между прочим, тоже не только в кошмарном бреду.
Критиками уже отмечалось, что в «Добровольцах» Раевский предстает настоящим мастером фрагментарного письма, восходящего к привычке вести дневник. Это действительно так. Короткая зарисовка, часто неполными предложениями — и перед читателем живая картина той эпохи. Живые голоса, живые лица — по большей части очень симпатичные и совсем юные.
Белая армия была молодой армией. Характеризуя нового солдата своей батареи, Раевский записывает: «Добродушный вихрастый хохленок законного добровольческого возраста. Семнадцать уже было» (372). Но многим не было и семнадцати — мемуаристы с болью говорят о том, что добровольцы, постоянно теряя кадровый состав, вынуждены были принимать в свои ряды рвавшихся в армию мальчишек пятнадцати-четырнадцати лет, нередко и моложе. «Дети шли в сугробах по колено/Умирать на розовом снегу», — вспоминал в одном из стихотворений участник Белого движения поэт Николай Туроверов. Почти вся интеллигентная молодежь стремилась к белым. (Красные об этом, разумеется, знали тоже: в «Тысяча девятьсот восемнадцатом годе» Раевский, ссылаясь на документы, упоминает случаи, когда красные истребляли учащихся целыми классами — так сказать, превентивно). Близкие друзья повествователя — 17-летний Коля Сафронов (Раевский, сам глубоко и разносторонне образованный человек, не переставал удивляться эрудиции этого юноши) и 15-летний Вася Шеншин. За что они воюют, эти мальчики? За то же, что и взрослые, — за право жить не по указке духовного хама, как сформулировал Раевский позднее в пражском дневнике свое неприятие большевизма.
Мальчишки погибают один за другим. Переворачиваешь страницу, и сердце сжимается: кто следующий? Многие предчувствуют скорую смерть. Капитан Раевский, которого после тифа направили на курсы в Севастопольскую артиллерийскую школу, заходит проститься с еще больным Колей: «Осторожно открываю дверь. <…> Нет, не спит, бедняга. Улыбается ласково и грустно.
— Вот спасибо, что зашли… Тоска…
Мне вдруг становится нестерпимо жаль измученного мальчика. Сажусь рядом. Беру за руку.
— Ну, до свиданья, бедная моя детка. Выздоравливайте поскорее!
— Прощайте, господин капитан… прощайте… больше никогда не увидимся… спасибо вам…
— Коля, голубчик, что вы… Бог даст, скоро поправитесь… в Севастополе встретимся… ну чего вы?
В голубых строгих глазах спокойная тоска. <…> Сжимает мне руку горячими пальцами. Смотрит в глаза.
— Прощайте… не забывайте меня, когда я буду убит… это наверное… Вернетесь из школы — я уже буду там, в ящике…
Не могу больше. Крепко целую его и выбегаю во двор. В колонии тишина. На востоке между деревьями розовая полоска зари. Влажный воздух неподвижен, и еще по-ночному сильно пахнут осыпающиеся акации…» (279).
 Встретиться больше не доведется: через два месяца шрапнель снесет Коле его умную голову, найдут только осколок теменной кости с обгоревшими русыми волосами. В тот же день погибнет Вася Шеншин (в действительности — Каншин, родственник композитора Римского-Корсакова), которому незадолго до смерти исполнилось 16. Раевский не раз вспомнит его в «Дневнике галлиполийца»: «Вечная ему память, маленькому моему другу, ребенку-воину, умершему страшной смертью. Что бы я дал, чтобы всё это стало тяжелым сном, а не правдой…» (455). Горько от сознания, какую замечательную молодежь уложили «на той единственной, Гражданской»…
Встретиться больше не доведется: через два месяца шрапнель снесет Коле его умную голову, найдут только осколок теменной кости с обгоревшими русыми волосами. В тот же день погибнет Вася Шеншин (в действительности — Каншин, родственник композитора Римского-Корсакова), которому незадолго до смерти исполнилось 16. Раевский не раз вспомнит его в «Дневнике галлиполийца»: «Вечная ему память, маленькому моему другу, ребенку-воину, умершему страшной смертью. Что бы я дал, чтобы всё это стало тяжелым сном, а не правдой…» (455). Горько от сознания, какую замечательную молодежь уложили «на той единственной, Гражданской»…
В финале повести — падение перекопских укреплений и эвакуация. Широкий читатель представляет ее по фильму «Служили два товарища»: обезумевшие толпы штурмом берут пароходы. Эта сцена не соответствует действительности. Правда, кони, плывущие за кормой, действительно были, и создатели фильма, скорее всего, взяли этот образ из стихотворения запретного тогда Николая Туроверова: «Уходили мы из Крыма/Среди дыма и огня./Я с кормы, всё время мимо,/В своего стрелял коня». Но в остальном то, что показано в фильме, имело место несколькими месяцами ранее в мартовской новороссийской катастрофе, после которой Деникин сдал командование Врангелю и удалился от дел. Врангель же, по оценкам отечественных и зарубежных специалистов, провел эвакуацию блестяще: практически все, кто хотел уехать, получили такую возможность. На 126 судах Крым покинули более 145 тысяч солдат, офицеров и штатских беженцев. Паники не было. Раевский в «Добровольцах» так запечатлел эвакуацию в Севастополе:
«Вдоль решетки Приморского бульвара строятся юнкера-донцы. Поправляют голубые бескозырки, подтягивают белые лакированные пояса. <…> Конная сотня выравнивает лошадей. <…> Перед строем юнкеров — главнокомандующий. Сирены молчат. Каждое слово слышно.
— Вы исполнили свой долг до конца и можете с высоко поднятой головой смотреть в глаза всему миру. Человеческим силам есть предел. Нас не поддержали, и мы истекли кровью. Когда мы уйдем на чужбину, здесь не раз вспомнят об улетевших орлах, но будет поздно. Доблестные атаманцы, дорогие мои орлы! В последний раз на родной земле… за нашу гибнущую родину, за великую… за бессмертную Россию… ура!
Стараюсь запомнить всё. Гнедую лошадь, которая испугалась крика и пробует вырваться из строя, вздрагивающий подбородок Сергея Гаврилова, густые тени на памятнике адмиралу Нахимову, мостовую, гостиницу Киста. Всё.
<…> Шесть высоких труб выбрасывают длинные спирали. У носа белый бурун. На фок-мачте сигнальные огни. Команда выстроена вдоль берега. Стоят “смирно”. Крейсер “Вальдек-Руссо”, флагманский корабль первой эскадры Средиземного моря, отдает честь уходящей армии.
“Генералу Врангелю от адмирала Дюмениля. В продолжение семи месяцев офицеры и солдаты армии Юга России под Вашим командованием дали блестящий пример. Они сражались против в десять раз сильнейшего врага, стремясь освободить Россию от постыдной тирании. …Адмирал, офицеры и матросы французского флота низко склоняются перед генералом Врангелем, отдавая дань его доблести”» (419, 425).
Завершается повесть «Добровольцы» панихидой (уже в эмиграции) по погибшим однополчанам: «Души их во благих водворятся, и память их в род и род…».
Третье из найденных произведений, «Дневник галлиполийца», — подлинный дневник, который капитан Раевский вел в трудные дни «галлиполийского сидения» Русской армии. В нем запечатлен и тяжелейший путь в Константинополь (чтобы вывезти и спасти как можно больше людей, суда загружали сверх всякой меры), и нелегкая жизнь в палаточном лагере «голого поля», как прозвали солдаты это турецкое местечко.
Все части Русской армии, кроме казачьих, были сведены в 1-й Армейский корпус под командованием генерала А. П. Кутепова, ближайшего помощника Врангеля. 1-й корпус французы разместили в Галлиполи, флот отправили в Бизерту (Тунис), казаков — на греческий остров Лемнос.
Д. Белюкин. Белая Россия. Исход
Французское правительство, прибрав к рукам многомиллионное русское имущество и приняв на себя обязательство в течение некоторого времени содержать Русскую армию, старалось взять со вчерашних союзников как можно больше, а дать им — как можно меньше. Нормы питания галлиполийцев, особенно на первых порах, были гораздо умереннее даже блокадных: «Сегодня дали по одной галете и по 1/16 фунта хлеба» (464). «С утра не дали ничего, кроме 1/16 фунта хлеба. По кружке супа выдали только около 4 часов» (465). В дальнейшем нормы несколько возросли (хлеба стали выдавать по 400 грамм), но периодически стремились вернуться в исходное положение. Не удивительно, что на страницах «Дневника» нередки упоминания о головокружении, малокровии, угрозе туберкулеза…
Д. Белюкин. Белая Россия. Исход (Фрагмент)
Но Галлиполи — это не только тяжкие страдания, это еще и поразительное свидетельство того, как, превозмогая внешние обстоятельства, человек может возвыситься над ними. В лагере кипит работа, в частности, открывается гимназия для тех самых мальчиков-воинов, не успевших в России завершить среднее образование. Посетив ее, Раевский записывает в дневнике: «Удивительно хорошее впечатление производит это учебное заведение. Чувствуется, что руководители его действительно любят детей и идейно преданы своему делу. На выставке <работ гимназистов> есть отличные рисунки 12–16-летних. Некоторые из них сделали бы честь и взрослому, хорошо рисующему человеку. <…> Меня поразило полное отсутствие военных тем, несмотря на то, что дети, за самыми малыми исключениями, все поступили из частей и годами жили войной. Оказывается, в гимназии ведется систематическая борьба с “военщиной”. Детей хоть на время стараются вернуть к нормальной жизни и создают для них нормальную обстановку. После скитаний и бесчисленных боев мальчики блаженствуют. <…> Многие совсем отучились спать на кроватях, сильно “опростились”, но не могу сказать, чтобы участие в войне развратило их. Савченко говорит, что труднее всего отучать их от ношения формы и отдания чести. <…> Теперь бегают босиком (отчасти из целей гигиенических, отчасти просто из-за отсутствия обуви)…» (510–511). В лагере создавались палаточные церкви, расписанные художниками-любителями. На страницах дневника — упоминания о работе шести самодеятельных театров, а также оркестров и хоров. В Галлиполи открылись русские военные училища, библиотеки, народный университет, издавалось около десяти машинописных журналов. Свершалось то, что позднее назовут галлиполийским чудом, что Иван Лукаш в своей известной книге «Голое поле» именовал «радостным огнем побеждающего духа». Эту книгу Раевский упоминает в дневнике: многие нашли, что галлиполийская жизнь описана Лукашом в общем верно, но слишком выспренно, и это не понравилось. Сам Раевский выспренности чужд и таких слов, как «галлиполийское чудо», не употребляет, но из его ежедневных записей видно, как постепенно это чудо совершалось, в том числе — в его собственной судьбе. Вот он в первые галлиполийские недели — с измотанными нервами, измученный накопившейся нечеловеческой усталостью от пяти лет войны, голодом, холодом… Но понемногу возвращаются душевные силы и появляется желание что-то делать — не только ради пропитания, но и потому, что без интеллектуального труда люди такого склада жить не могут. Раевский, лучший «француз» в своей батарее, начинает преподавать французский солдатам и тем офицерам, которые знают язык недостаточно, — ведь жить предстоит неизвестно где, а французский был тогда языком международного общения. Он становится инициатором создания и одним из постоянных авторов «Устной газеты», выполнявшей просветительские функции и служившей целям «политинформирования», принимает активное участие в культурной жизни галлиполийского лагеря. Генералы Врангель и Кутепов сумели совершить невероятное: в тяжелейших условиях сплотить людей, сохранить армию, не дать ей превратиться в сборище опустившихся босяков, и капитан Раевский был одним из тех, кто деятельно помогал им в этом.
В вышедшем в 1990 году документальном фильме о Раевском «Портрет с кометой и Пушкиным» писатель сказал, что не может забыть 11 созданных им и впоследствии утраченных произведений о Белом движении. Очень хотелось бы, чтобы нашлись остальные, но верится в это слабо. Мы привыкли злоупотреблять фразой «рукописи не горят», забывая, что в булгаковском романе ее произносит отец лжи. Вся история мировой литературы вообще и нашей ХХ века в особенности свидетельствует о противоположном: на самом деле рукописи отлично горят, а также тонут, гибнут под бомбежками, бесследно исчезают в недрах спецхранов. И как отрадно для русской литературы и русской исторической памяти, что уцелели хотя бы некоторые произведения Раевского, эти ярчайшие свидетельства высокоталантливого наблюдательного современника о страшной и героической эпохе.
[1] Раевский Н. А. Добровольцы. Повесть крымских дней // Неизвестный Раевский: Тысяча девятьсот восемнадцатый год. Добровольцы. Дневник галлиполийца. М.: Русский раритет, 2010. С. 230–233. Далее цитаты из этих произведений по данному изданию с указанием в скобках страниц.
[2] Раевский Н. Тетради заговорили // Литературная газета. 1994. № 10. 9 марта. С. 6.
[3] Набоков В.В. Три письма Николаю Раевскому о повести «Добровольцы» // Неизвестный Раевский. С. 427.
Оксана Гаркавенко
Журнал «Православие и современность» № 28 (44)
Смотрите также: Поэты Белой Гвардии
Find more like this: АНАЛИТИКА













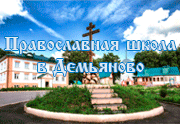


Уведомление: Бывшие люди | Церковь Успения Богородицы
Уведомление: Иван Солоневич. Последний рыцарь империи | Церковь Успения Богородицы
Уведомление: Последний парад белой армии (ВИДЕО) | Церковь Успения Богородицы
Уведомление: Александр Вертинский. «Памяти юнкеров» | Церковь Успения Богородицы
Уведомление: 28 марта 2015 года исполняется 115 лет со дня рождения русского поэта-эмигранта Владимира Диксона | Церковь Успения Богородицы
Уведомление: Архангельская епархия открыла виртуальный музей Новомучеников и исповедников | Церковь Успения Богородицы
Уведомление: Россия, которую мы им «подарили» | Церковь Успения Богородицы