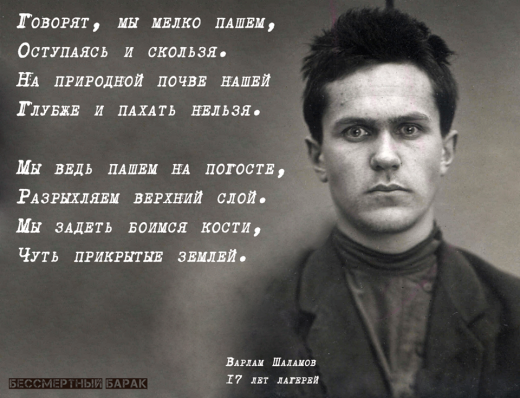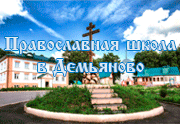Всё больше слышатся голоса: «Ведь не всех же загнали в лагеря, а тем более расстреляли? Не всех. Значит, кого не арестовали и не расстреляли — те были нормальные, ни в чем не виноватые люди…
А вот кого, таки да, расстреляли — наверное, было за что? В общем, не нам их (палачей) судить. А жертвы сами нарвались. Так им и надо, по большому историческому счету».
Вся русская классическая литература исполнена жалости к «маленькому человеку». К жертве обстоятельств или разбойников, нищеты или болезни… Сострадание было главнейшей нравственной ценностью. Соблазнитель, обманщик, мироед, палач, жандарм и неправедный судья пользовались, мягко говоря, куда меньшим сочувствием авторов и читающей публики. Мы сегодня считаем себя законными наследниками «золотого века русской культуры». Меж тем это совсем не так…
У русской культуры середины ХХ века и последующих лет есть одно поистине изумительное свойство — чрезвычайная терпимость ко злу. Сейчас жертва (особенно — слабая, безымянная и давняя) — вызывает брезгливое раздражение. Палач — «он выполнял приказ», «время такое было» и вообще «не нам их судить». То есть им — судить, приговаривать и казнить. А нам — ни-ни… И вообще, стало свойственно опираться на самые низменные и подлые человеческие мотивы. «Ставка на сволочь» — так русский монархист Иван Солоневич назвал данную политическую технологию. Что же со всеми нами произошло? Размышляет писатель Денис Драгунский.

Смотрите также:
Никто не спрячется
Когда-то давно Михаил Светлов сказал:
«У нас, чтобы жить, надо умереть».
Речь шла о том, что художника начинают ценить после смерти: художника по-настоящему большого и популярного возносят на пьедестал недосягаемой высоты; художника скромных дарований смерть, особенно трагическая, делает крупнее; и даже совсем незаметному труженику кисти или пера после смерти бывает легче пробиться на выставку или в издательство, к утешению его родственников.
Это касается не только людей искусства. Смерть — великая примирительница и утешительница. «Хорошо на кладбище. Все, что было запутано, мучительно, — стало легко. Близкий человек живет здесь особой, хорошей, ясной жизнью, и так милы стали отношения с ним» (Василий Гроссман, «На вечном покое», 1957).
Но увы. Это все про ранешние времена и давнишних людей, про питомцев русской классики и вообще довоенного гуманизма. Довоенного — в смысле до Первой мировой. Этот позапрошловековый, можно сказать, дух дожил аж до середины ХХ века, а то и до конца третьей его четверти. Так бывает. Но все равно — кончается.
Времена нынче другие, и люди тоже.
Нынче стоит человеку умереть, как его начинают ненавидеть еще сильнее, чем ненавидели при жизни.
Не стану приводить примеры — их слишком много, они у всех на свежей памяти и перед глазами. Сначала бешено злорадствуют по поводу умершего. Вторая волна — жаркая ненависть к тем, кто злорадствует. Третья — злорадники объясняют ненавистникам, как они неправы. То есть «гореть вам в аду». «Нет, вам, вам, вам!». Где-то на пятой итерации предмет скорби (или злорадства) забывается, остается чистая ненависть.
Александр Дейнека. Постановили единогласно, 1925
Если что-то стало частью словесной, эмоциональной, ментальной жизни — значит, это стало частью культуры. Почему процвела культура ненависти и упоение собственной безжалостностью?
Оказывается, у русской культуры середины ХХ века и последующих лет есть одно поистине изумительное свойство.
Оно резко отличает ее от классической русской культуры (и особенно литературы) XIX века, о которой мы говорим с восторженным придыханием и гордостью. Пушкин! Гоголь! Достоевский! Толстой! Некрасов, Тургенев, Чехов, и целый сонм писателей чуть поменьше масштабом: Григорович, Лесков, Короленко, Эртель, писатели-народники (извините, что в одну кучу), а также Потапенко, Андреев, Куприн и даже Бунин и Блок.
Мы сегодня считаем себя законными наследниками «золотого века русской культуры». Меж тем это совсем не так.
Что же это за новое свойство? Чрезвычайная терпимость ко злу, вот что. И отсюда — сочувствие палачу и презрение к его жертве.

Смотрите также:
Память Сандармоха
Вся русская классическая литература исполнена жалости к «маленькому человеку».
К жертве обстоятельств или разбойников, нищеты или болезни, полиции или охранки. Бедная Лиза, Самсон Вырин, Акакий Акакиевич, Антон Горемыка, а также Акулина и Дунька из потрясших Россию повестей Григоровича, Герасим со своей Муму, Макар Девушкин, Неточка Незванова, Соня Мармеладова, Катюша Маслова, гробовщик Яков Бронза вместе со скрипачом Ротшильдом, андреевские семь повешенных, купринские проститутки и безымянная «под насыпью, во рву некошеном».
Сострадание было главнейшей нравственной ценностью. Каторжников в народе называли «несчастными». Адвокатов буквально носили на руках. «Войдем в зал суда с мыслью, что мы тоже виноваты», — призывал Достоевский. Мы, которые судим и казним.
В. Александров. Иллюстрация к повести Н.Гоголя «Шинель»
Соблазнитель, обманщик, мироед, палач, жандарм и неправедный судья пользовались, мягко говоря, куда меньшим сочувствием авторов и читающей публики.
Губернатора, который приказал стрелять в рабочих, отчего погибло много народу и среди них дети (рассказ Леонида Андреева «Губернатор», 1905), — жалела безвестная гимназистка, но почему? Потому что губернатор уже сам себя приговорил к смерти за этот приказ, и нарочно ходил без охраны, и в итоге его застрелили боевики-революционеры.
«И весь день возбужденно говорили об убийстве, одни — порицая, другие — одобряя его и радуясь. Но за всеми речами, каковы они ни были, чувствовался легкий трепет большого страха: что-то огромное и всесокрушающее, подобно циклону, пронеслось над жизнью, и за нудными мелочами ее, за самоварами, постелями и калачами, выступил в тумане грозный образ Закона Мстителя. Гимназисточка плакала».
Но вряд ли бы она смогла плакать о застреленном губернаторе, если бы до этого она, и ее мама, и ее бабушка не плакали о Бедной Лизе, Самсоне Вырине, Антоне Горемыке и далее по списку.
В ХХ веке, начиная со второй его трети, все вдруг изменилось.
Расстрельная команда НКВД, 1930-е
Сейчас жертва (особенно — слабая, безымянная и давняя) — вызывает брезгливое раздражение. Палач — «он выполнял приказ», «время такое было» и вообще «не нам их судить». То есть им — судить, приговаривать и казнить. А нам — ни-ни.
Кстати, полезный совет: когда вам кто-то с постной миной говорит: «не судите» — это значит, что вас уже осудили, в полном противоречии с евангельской заповедью, на которую этот ханжа ссылается.
Стоило кому-то написать в социальных сетях, что рядом с красивым надгробным памятником главпалача НКВД Блохина — который лично, сам, своей рукой расстрелял более 10 000 человек — что рядом не худо бы поставить табличку с указанием на этот исторический факт — тут же раздается ханжеский голос: «Воевать с мертвыми, фу, это недостойно, это низко!».
Ему убивать по 20 человек в день было высоко. А указать на это — низко. Интересные дела.
А вот жертвам достается по полной. Крестьяне прятали хлеб, рабочие бастовали, доценты саботировали. Поляки, карелы и немцы шпионили. Крымские татары, балкарцы, чеченцы и ингуши предавали. Если бы к власти пришли Троцкий (Бухарин, Каменев, Зиновьев, Рыков и т.д.) — то было бы еще хуже. Маршалы и генералы все как один лезли в бонапарты. За колоски сажали — справедливо (аргумент: «или вы считаете, что воровать, красть — можно?!»). А бухгалтера Иванова и его жену — и еще полмиллиона таких же бухгалтеров и их жен — сажали и стреляли для общей острастки, которая в видах грядущей войны была просто необходима.
И самое главное — ведь не всех же загнали в лагеря, а тем более расстреляли? Не всех. Значит, кого не арестовали и не расстреляли — те были нормальные, ни в чем не виноватые люди. А вот кого таки да расстреляли — наверное, было за что?
В общем, «не нам их судить»…
А жертвы сами нарвались. Так им и надо, по большому историческому счету.
С. Никритин. «Суд народа», 1934
Да что там история, что там репрессии и войны… Ближе к жизни! Сколько раз, видя, как пятеро бьют одного, я пытался вмешаться, позвать здоровых мужиков на помощь. А здоровые мужики рассудительно отвечали: «А почем мы знаем, что у них там? Может, он им денег задолжал, и не отдает? Может, он чью-то девушку обидел? И вообще, может он первый начал?»
Конечно, у всего этого есть свои объективные причины, которые коренятся… и т.д., и т.п., и много-много рассуждений и объяснений.
Но гадость не перестает быть гадостью из-за того, что у нее есть причины.
Кто же виноват? Легче всего обвинить советскую литературу, которую вколачивали в головы трех поколений школьников. На месте классического сострадания оказались такие понятия, как «классовая ненависть» и «революционная целесообразность».
Отчасти это действительно так. Но только отчасти. Многие прекрасные наши писатели — тот же Василий Гроссман, Андрей Платонов, Пришвин, Трифонов, и не только они — никогда не пытались оправдать палача и пригвоздить жертву. Увы, их голос был едва слышен на барабанном фоне соцреалистического мейнстрима. Его было много, он был громок и настырен, стучался в души через кино- и телеэкраны, радиопостановки, спектакли, вообще через устранение образа жертвы, образа страдающего, несчастного, униженного человека.
Ну а кроме того, не надо придавать литературе слишком уж большое значение. Хочешь не хочешь — литература отражает жизнь. И даже воздействуя на жизнь, обтачивая ее по своим лекалам — литература не с потолка эти лекала берет.
Иногда кажется, что главная причина одна — гражданская война в России до сих пор не окончена.
В 1921 году, после Кронштадта и введения НЭПа, она лишь притормозила. Не было полномасштабного гражданского примирения, не была создана нация равноправных граждан. Оставались граждане первого, второго и десятого сорта, «лишенцы», кулаки, нераскаявшиеся меньшевики, бывшее дворянство, купечество и духовенство, «буржуазные спецы», а потом колхозники без паспортов, обитатели 101-го километра, и так далее — широкий спектр неравноправия.
Иногда кажется, что сталинские репрессии были своего рода продолжением гражданской войны. Рев толпы «расстрелять, как бешеных собак» вполне мог быть искренен: вряд ли кто-то из народа мог сочувствовать Каменеву и Зиновьеву, Бухарину и Рыкову. Что же касается пресловутых «четырех миллионов доносов» — в них, возможно, тоже было какое-то сведение старых счетов. Символическая месть ни в чем не виноватому соседу за свое несчастное житьё-бытье.
.
Ну а самым главным воинством были наши доблестные органы, воевавшие и с народом, и друг с дружкой, в ходе регулярных смен руководства НКВД. У правящей клики была одна (в скобках цифрами — 1) цель, и не надо нам заливать про доменные печи и индустриализацию — потому что во всех странах мира индустриализация, и куда более успешная, проходила без 800 000 расстрелов за два года, без раскулачивания и колхозов.
Так вот, цель была всего одна — увековечить свою власть, ибо в ином случае Сталина с Молотовым, Маленковым, Кагановичем и прочими товарищами ждали бы те же самые подвалы Лубянки и точно такие же Большие Процессы.

Смотрите также:
Православие и правосудие
И тов. Вышинский кричал бы в Колонном зале о том, что Молотов был завербован всеми разведками, и признался в этом, а Сталин ночами сыпал толченое стекло в картофельное пюре рабочей столовой на Малой Силикатной улице — и тоже признался. И он бы признался.
Во избежание такой перспективы и пришлось продолжать гражданскую войну и опираться на самые низменные и подлые человеческие мотивы, на самых алчных, тупых и злобных людей, которые есть во всяком народе — но не всякие политики делают на них ставку.
«Ставка на сволочь» — так русский монархист Иван Солоневич назвал данную политическую технологию.
Э. Вейдеманис. Москва. Бутово. Расстрельный полигон НКВД. 1937 – 1938 (1999-2003)
Свойственное последней сволочи безжалостное презрение к жертве, ставшее психологической основой советского режима, через полтора поколения — то есть уже в наши дни — обернулось презрением ко всем, ненавистью ко всему, что дышит и шевелится. Поэтому не надо удивляться, что смерть или даже трагическая гибель оппонентов (хоть «тех», хоть «этих») вызывает отнюдь не корректные соболезнования или хотя бы сдержанное молчание, а злорадные крики «гори в аду».
Не в первый раз. «Расстрелять врагов народа как бешеных собак!» — неужели забыли?
Денис Драгунский
Find more like this: АНАЛИТИКА